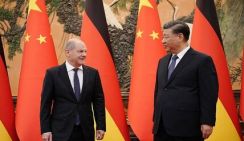«Средняя Азия может оказаться регионом непростым в плане реакции на все угрозы...»
Станислав Тарасов
«Средняя Азия может оказаться регионом непростым в плане реакции на все угрозы...»
Станислав Тарасов
- Стало известно о новом оружии Киева против Крымского моста
- Зеленский записал отчаянное требование к Евросоюзу
- Стало известно, когда украинские офицеры ждут обрушения фронта
- Священника арестовали по делу об убийствах под Белгородом
- ВСУ устроили массовый налет на Белгородскую область: сбита 21 цель
- Украина больше не интересна США, уверен политолог Никулин
«Был рассчитан он на столетье»
Владимир Алейников о художнике Игоре Ворошилове
Друг мой давнишний — Игорь Ворошилов. Художник великий.
Высоченный. И несуразный. Своенравный. И многоликий.
Образованный — лучше многих. Одарённый — куда уж больше.
Компанейский — и одинокий. Знавший то, что полыни горше.
Добродушный — и вдохновенный. Озарённый — нездешним светом.
Окрылённый — и дерзновенный. Удивительным был поэтом.
Был мыслителем — и бродягой. Дольше всех по земле скитался.
Вот и в памяти человечьей ярче всех навсегда остался.
Был рассчитан он на столетье. Жил годами за гранью быта.
Был воителем. Лихолетье презирал. Говорил — открыто.
Мыслил — в корень. Прозренья ведал. Верил в Бога — по-детски, просто.
Никого никогда не предал. Был — в пути. Знал — приметы роста.
Понимал иногда такое, что другим недоступно было.
Не искал среди бед покоя. Шёл — вперёд. Козак Ворошило.
Видно, борется и доселе. Там, где он пребывает ныне.
С тем, что выйти мешает к цели и легко везде на помине.
Ошибается. Побеждает. Утверждается в каждом чувстве.
Изумляется. И страдает. Чтоб спасенья искать в искусстве.
И находит — свою дорогу. И выходит по ней — к себе.
Далеко ему — до итога. Не до шуток теперь — судьбе.
Начинается всё — сначала. Продолжается — на века.
Вот мелодия зазвучала. Незаметно. Издалека.
Вслед за звуком возникли знаки сокровенного жития.
Эпос. Летопись. Взгляд во мраке. Сплав наития и чутья.
Примириться с мыслью о том, что Игоря Ворошилова нет в живых, мне до сих пор трудно, да и попросту невозможно. Слишком уж многое было связано с ним в прежние, драматические и крылатые, времена, и уход его оказался невосполнимой утратой значительной части той драгоценной духовности, которая, возродившись и окрепнув на отечественной почве, объединяла, поддерживала и спасала всех нас. Образ его с годами укрупняется, проясняется в сознании, — и, по давнишней привычке, мысленно я и теперь продолжаю беседовать с другом, из нынешней своей яви всё пишу ему письма — куда-то в таинственную, отзывающуюся мерцающей галактической бесконечностью реальность, именуемую памятью.
Был он, без сомнения, по всем статьям человеком Возрождения. Проявлялось это во всём, к чему он прикасался, везде, где были знаки его присутствия. Простой берет сидел на его голове так, словно сшит был придворными мастерами Лоренцо Великолепного. Под китайским плащом, накинутым на его широкие плечи свободно и непринуждённо, так и хотелось увидеть кинжал и шпагу, как у Бенвенуто Челлини. Рыцарственность часто прямо-таки вспыхивала в нём — и не случайно без памяти влюблялись в него экзальтированные дамы. К дружбе относился он свято. Двое из лучших друзей звались, разумеется, Леонард и Рафаэль. А великая любовь, своя Прекрасная Дама, верность которой он упрямо хранил, чистым небесным светом озаряла его земные подвиги.
Никому никогда он себя не навязывал — и держался всегда, по возможности, скромно. Точно в противовес всяким книжным премудростям, которыми был поистине переполнен, регулярно читал он спортивные газеты, азартно, со страстью, решал все подряд кроссворды, увлекался шахматами и шашками, интересовался новейшими техническими достижениями. Одним словом, никогда, несмотря на нешуточную свою образованность и, временами, некоторую отрешённость от суеты, говорящую больше о постоянно идущей в нём творческой работе, нежели просто о некоей странности, не выпадал он из жизни, из реальности, из яви. К любому человеку, кто бы он ни был, относился внимательно, даже бережно. Демократизм его, врождённый, не знал пределов. Доверчивый, нуждающийся в общении, прикипал он, бывало, к кому-нибудь — и, отыскав наконец приют, вёл, не только часами, но и сутками, с хозяевами и с их гостями, увлекательнейшие беседы, в ходе которых и открывалась, буквально ошарашивая некоторых, невероятная, многодонная, многослойная, и вместе с тем — ясная, стройная, такая, в которой есть порядок, есть лад, и всё же, могло показаться кому-то порой, сверхчеловеческая какая-то, с неизменным торжеством пронзительной мысли и феноменальной памяти, его эрудиция. Остаётся только пожалеть, что интереснейшие его монологи и классически чёткие суждения об искусстве, рассказы о жизни — лесковской силы «сказы» — так никем и не были записаны. Без музыки — я уже говорил об этом, но сознательно повторяю, буквально — подчёркиваю, он просто жить не мог — и при любой возможности, добравшись до неё, дорвавшись до неё, слушал её, напитывался ею.
Ворошилов, родившийся в декабре тридцать девятого и умерший в марте восемьдесят девятого года, — один из наиболее значительных современных русских художников. По мне — так самый хороший. Для меня — самый — из всех — дорогой. Значительность его — велика и долговечна. Теперь, после безвременной его смерти, это, кажется, признано всеми, кто более-менее ясно представляет себе всю картину отечественного авангарда за четыре последних десятилетия. Впрочем, относить Ворошилова только к авангарду никак нельзя, ибо искусство его, многогранное, чрезвычайно сложное, намного выше и шире, нежели только авангард, оно не вмещается в любые рамки, ломает привычные формулировки, оно обладает своим, неповторимым живописным и философским языком, и даже непосвящённому, увидевшему впервые ворошиловские работы разных периодов и старающемуся их понять, становится ясно, что воздействие их на человека — магическое, что они западают в душу, притягивают к себе, что жизнь их, проходящая несколько в стороне от общего шума, хаоса, суеты — гармонична, исполнена высокого благородства, силы и животворного света.
Три десятилетия интенсивнейшей работы — это созданные, зачастую в невыносимых жизненных условиях, в нищете, в череде бездомиц, бродяжничества по городам или по московским временным пристанищам, по друзьям и случайным знакомым, где придётся и на чём придётся — на бумаге, картоне, холсте, оргалите — сотни и сотни живописных работ, маслом, темперой, тысячи графических работ, выполненных в самой разной технике, порой изобретаемой на ходу, — потому и не удивительно, что такой, например, мастер современной живописи, как Игорь Вулох, очень любящий творения Ворошилова, честно признавался: не понимает, как это сделано. Причём сменялись периоды, художник неустанно совершенствовался, мастерство его всё росло. Ворошилов с фантастической щедростью раздаривал свои работы, если и продавал — то, по теперешним меркам, просто за гроши, оставлял на хранение вразброс, где придётся, — и забывал взять их… Он всегда искал «покоя и воли» — и, кажется, вдосталь намаявшись, находил их, вдали от Москвы, на Урале, в небольшом городке Верхней Пышме, под Свердловском — теперешним, с возвращённым прежним названием, Екатеринбургом, где многие годы прожил вместе со своей женой, своей Музой, Мирой Папковой, лишь изредка наезжая в столицу, каждый раз с горой новых произведений, — и умудряясь за кратчайшее время всё раздать, развеять среди людей. В итоге перед близкими и друзьями его встал немаловажный вопрос: как собрать наследие Ворошилова? где искать работы? Огромное их число словно витает рядом, — но где? Изрядная часть оказалась за границей. Многое находится в частных собраниях, московских и провинциальных. Но целостную картину воссоздать невозможно, постоянно возникают какие-то бреши, пустоты, недостаёт существенных звеньев. Остаётся, пожалуй, уповать на то, что со временем циркулирующие где-то (и существующие ведь!) работы отыщутся, выплывут на свет, придут к зрителям, — как порой говорил сам Ворошилов — «прорастут». Те же ценители, настоящие, что обладают коллекциями ворошиловских работ или даже разрозненными произведениями, хранят их нынче бережно и рьяно.
Что за метаморфозы, что за странности случались в жизни не только с работами, но и с самим художником! Ему постоянно сопутствовали далеко не всегда радостные, скорее наоборот, события, истории, происшествия. И с ними он вынужден был как-то смиряться. Его всё время заносило куда-то не туда. Словно какая-то сила — вела его и заносила. И сколько же приходилось всякой всячины потом расхлёбывать! Невезуха? Возможно. Испытания на прочность? Наверное. Но ещё и другое: судьба. Завитки спирали её оказались на редкость изогнутыми, так закрученными, что поди разберись, — лабиринты, и только. Жить бы ему, казалось, размеренно, сосредоточенно. Всё ведь было при нём. Блистательно образован. А одарён-то как! — щедро, разносторонне. Ворошилов писал замечательные стихи, философские работы, трактаты об искусстве, эссе, статьи, — и всё это ещё найдёт своего читателя. Он играл на некоторых музыкальных инструментах. Слух имел — бесподобный. Философски был так подкован, что запросто затыкал за пояс любых, самых отъявленных, спорщиков. И вот — надо же! — такая нескладная жизнь. Нет, не надо вздыхать. Его жизнь, его, ворошиловская. Не чья-нибудь, а — его. И если он столько создал, то, значит, она — прекрасна. Такая, какой была. И свет её — вот он, рядом.
До занятий живописью Ворошилов серьёзно занимался музыкой. Потом — литературой. Подумывал даже стать киноведом. Но живопись, которой он начал заниматься ещё в институте, во ВГИКе, взяла своё. Отныне только она наполняла смыслом существование, и Ворошилов предпочёл жизнь независимую и озарённую творчеством жизни сытой и благополучной. Год шёл за годом, работы множились. Росла известность, а потом и слава художника в кругах тех современников, которые горячо приветствовали появление нового, нонконформистского искусства в стране и помогали его развитию. Но — парадокс — в отличие от куда более практичных собратьев по цеху, Ворошилов ровным счётом ничего из своей известности и укрепляющейся славы для себя не извлёк, никаких благ, никаких выгод. Пронзительно музыкальная, возвышенная, многогранная его живопись достигала серьёзных высот и говорила о даре художника так, что, казалось бы, ну никак нельзя пройти мимо неё, не заметить. Однако умудрялись не замечать — искусствоведы, из числа официальных, устроители выставок, то есть те, от которых впрямую порой зависит судьба художника. И тень официоза не упала на созданное мастером. Выставлялся Ворошилов редко, понемногу. Первая персональная выставка его с огромным успехом прошла в Киеве, незадолго до смерти. Вторая, в московском Доме Кино, — уже после смерти, в декабре восемьдесят девятого года. Выставки были замечательные, но в полной мере представить творчество Ворошилова на них не было возможности. Были и другие выставки, в Москве. А в юбилейном его, девяносто девятом году, к шестидесятилетию, которого он так и не дождался, — снова в Киеве, персональная выставка, — хорошо прошла, говорили. Выставки были — и ещё, разумеется, будут. Как представить на них Ворошилова полноценнее — вот в чём вопрос. Ворошилов был очарованным странником, такими же странниками стали и его работы, столько говорящие о времени, о судьбе, о душе. Тому, кто понимал значение ворошиловских работ ещё четыре десятилетия назад, можно, наверное, радоваться ныне своей прозорливости. Ведь художник всё рос. Постепенно от камерных работ — портретов, загадочных, а скорее — волшебных, пейзажей, выполненных темперой, от прелестных, раскрепощённых рисунков тушью, соусом, сангиной, углём перешёл он к работам более фундаментальным, мощным по оркестровке (ибо удивительная музыкальность ворошиловских работ признаётся всеми, да и работал художник часто под музыку, в основном классическую, которую знал очень хорошо), многоплановым композициям, с несравненной, сугубо индивидуальной цветовой гаммой, сконцентрированным, таящим в себе серьёзные обобщения, трагическим, напряжённо-звенящим, столькое говорящим о том, что это такое — Дух, Свет, Путь. Ворошилов вплотную подходил к пониманию некоей тайны бытия, он был в лучшем смысле слова мистическим художником, как, например, Филонов, и такого же уровня, и даже крупнее, выше. Смерть свою он предчувствовал заранее, тому свидетельства — письма его. Он унёс с собою открытую им тайну. И теперь, когда частицы её, проглядывающие в работах, соединятся в целое в восприятии людей, я убеждён, изменит мир к лучшему и искусство Игоря Ворошилова.
…Мерцанье волшебных граней.
Эпох роковой излом.
Немного воспоминаний.
Конечно же, о былом…
— У тебя вся спина белая!
Что за шутки? И чей это голос?
Ворошилов остановился. Оглянулся. Взглянул, сощурившись, вдаль, назад, во дворы, откуда доносился дурацкий оклик.
На скамейке, с бутылками пива и с кусками воблы, разложенной на измятой газете, сидели, усмехаясь, трое парней.
Ворошилов сказал им:
— Придётся на спине что-нибудь рисовать.
Парни дружно, громко заржали.
— Длинный, ты, наверно, художник? — вдруг спросил один из парней.
Ворошилов ответил:
— Художник.
— А меня нарисуешь? — спросил тот же парень. — Или слабо?
— А тебя рисовать я не буду. Потому что ты мне неприятен. — Ворошилов махнул рукой, словно он отмахнулся от мухи, и сказал устало: — Отстань!
— Что? — вскочили все трое парней. — Слушай, ты, художник! А ну, повтори-ка, что ты сказал?
Ворошилов сказал:
— Отстаньте!
Парни грозно придвинулись к нам.
— Ты, художник!
— И ты, борода!
— Схлопотать по мордам хотите?
Шли мы с Игорем Ворошиловым по своим делам, а точнее и честнее — в поисках пива. Шли — к пивному ларьку. А тут — на пути нашем долгом — загвоздка. Трое пьяных парней. Задиристых. Молодых. И довольно пьяных.
Я сказал Ворошилову:
— Игорь! Нам придётся объединиться.
И ответил мне Ворошилов:
— Да, Володя! Объединимся.
В двух шагах от нас грудой лежали груды спиленных с ближних деревьев, свежих, толстых, массивных ветвей.
Приподнял я с земли одну ветку — и шарахнул по ней, с размаху, по наитию, видно, какому-то, резко, быстро, ребром ладони.
Ветка, с треском необычайным, разломилась на две половины.
Отшатнулись парни от нас:
— Каратист!
— Ребята, атас!..
Ворошилов схватил обломок ветки в руку правую:
— Брысь!
И парней — словно ветром сдуло. Даже пиво своё забыли, вместе с воблой, на той скамейке, где недавно сидели они.
Ворошилов сказал:
— Володя, неужели ты — каратист?
— Нет, конечно, — ответил я. — Никакой я не каратист. И об этом прекрасно ты знаешь. Просто — так получилось. И сам я не пойму — ну как это вышло?
— Значит, свыше нас уберегли! — Ворошилов голову поднял вверх — и что-то там разглядел. — Ну конечно! Ангелы наши. Нам сейчас они помогли.
Согласился я с ним:
— Это — ангелы.
Пить оставленное парнями пиво мы, конечно, не стали. Не хватало ещё — за кем-то, неизвестно — кем, допивать. Гордость есть у обоих. И честь. И не в наших — такое — правилах.
Мы отправились дальше. Мы шли по столице — в поисках пива.
Сколько раз такое бывало! Не упомнить. Не сосчитать.
Но в пивнушках — не было пива. И ходить нам — уже надоело.
И сказал тогда Ворошилов:
— Знаешь, что? Не хочу я пива.
Я сказал:
— И я не хочу.
— Лучше выпьем с тобой газировки. Без сиропа. По два стакана.
Я сказал:
— Газировки — выпьем.
Автомат с водой газированной отыскали мы вскоре. И выпили, каждый — по два стакана, шипучей, освещающей, чистой воды.
— Красота! — сказал Ворошилов.
Я сказал:
— Красота. Лепота.
Добрались мы — сквозь летний зной, звон трамваев и шум проезжающих непрерывным потоком, по улицам, тополиным пухом засыпанным, словно призрачным снегом, машин, сквозь прибоем звучащий гул голосов людских, сквозь протяжный, лёгкий шелест листвы, сквозь день, незаметно клонящийся к вечеру, сквозь желание выпить, которое мы оставили позади, там, в недавнем, но всё же былом, до знакомого всей московской, удалой, развесёлой богеме дома, где обитал я тогда.
Чинно, скромно зашли в подъезд. Поднялись на седьмой этаж в лифте. Ключ отыскал я в кармане. Дверь квартиры открыл. Мы шагнули, друг за другом, через порог. Оказались внутри. В какой-то удивительной полупрохладе. Так могло показаться нам, после наших дневных походов по жаре. Отдышались. Чай заварил я. Крепкий. И вкусный. «Со слоном». Когда-то считался он едва ли не самым лучшим. Пили чай мы. Вечер настал. Свет зажёг я. Включил проигрыватель. И поставил пластинку. Баха.
Волны музыки поднялись высоко, заполнили комнату, потянулись к двери балконной приоткрытой, проникли в наши, молодые ещё, сердца, в души наши, вошли в сознание, в память, в жизнь, в наши судьбы, в прошлое, настоящее и грядущее, в явь, которую мне приходится — через годы — воссоздавать, в книгу эту, в стихию речи, чтобы слышать — и прозревать…
…В шестьдесят восьмом? Да, пожалуй. Поздней осенью. Да, наверное. Где-то в самом конце ноября, полагаю. Однажды вечером.
Ворошилов зашёл в квартиру, как герой, вернувшийся с фронта, после многих сражений, с видом победителя, с грудой работ на картонах, в обеих руках, — и швырнул их на пол, сказав, приказав, скорее, призвав сразу всех, к немедленным действиям, тоном маршала:
— Выбирайте!
Собралась у меня тогда, по традиции прежних лет, вечерок скоротать, стихи почитать, большая компания.
Все — как будто бы пробудились. Налетели, толкая друг друга, на картины, сюда принесённые Ворошиловым, новые, свежие, сразу видно, что очень хорошие, даже больше, просто чудесные, и шедевры есть, посмотрите-ка, ну и ну! — и давай выбирать.
Я сказал:
— Что ты делаешь, Игорь?
Ворошилов:
— Пусть выбирают!
Выбирали. Через минуту разобрали работы, все.
Я сказал:
— Человек — трудился. Что ж вы — так? Налетели, как хищники, на картинки — скорей, скорее, ухватить для себя, урвать!..
Но богемная публика эта даже ухом не повела. Получили работы, задаром, — и прекрасно, и все довольны. Пьют вино, дымят сигаретами, говорят о своём, картинки, между делом, с видом прожжённых знатоков, спокойно рассматривают. Как их много! И все — с претензией на свою особенность, все — с самомнением, с гонором, с хваткой, на поверку, быстрой и цепкой.
И тогда я сказал всей компании:
— Расходитесь. Мне надо работать.
Поворчав, компания стала расходиться.
Сказал я Игорю, громко, твёрдо:
— А ты — оставайся.
Дверь захлопнулась за последним из богемщиков. И квартира опустела. Стало просторней. И спокойней. Открыл я дверь на балкон, чтобы всё проветрить. Сигаретный дым, как туман, полосой потянулся на улицу. Заварил я на кухне чай. Приоткрыл холодильник. В нём было пусто почти. Но я приготовил два бутерброда. И позвал к себе Ворошилова:
— Игорь, где ты? Иди пить чай.
Ворошилов, с книгой в руке, — это был им любимый Хлебников, — длинный, тихий, в домашних тапках, в брюках, красками измазюканных, старых, рваных, коротковатых, в мятой, старой рубашке, задумчивый почему-то, пришёл на кухню.
Пили чай мы. Вдвоём. За окном различить, напрягая зрение, можно было два старых тополя, облетевших, тех, о которых я сказал Ворошилову как-то, что один из них — мой, а другой — ворошиловский. Игорь с этим согласился тогда. Всякий раз, появляясь вновь у меня, он искал вначале глазами, в заоконную щурясь хмарь, эти старые тополя.
Эти старые тополя — сохранились. Во всей округе — всё снесли, деревья спилили, понастроили новых домов. Только два этих старых тополя, мой — один, другой — ворошиловский, словно память о прежней эпохе, да и память о дружбе, — стоят. Всё на том же месте. Живые. Ветераны. Свидетели грустные лет, овеянных славой нынешней. И листвой — сквозь боль — шелестят…
- На Украине могут призвать 10 тысяч заключенных
- На Украине гудит воздушная тревога
- Следственный комитет заинтересовался московским нейрохирургом
- Украина больше не интересна США, уверен политолог Никулин
- Стало известно, когда украинские офицеры ждут обрушения фронта
- Зеленский записал отчаянное требование к Евросоюзу
- ВСУ устроили массовый налет на Белгородскую область: сбита 21 цель
- Стало известно о новом оружии Киева против Крымского моста
- Генпрокурор Краснов прилетел в Венесуэлу с рабочим визитом
- Священника арестовали по делу об убийствах под Белгородом