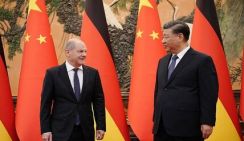«Рост цен на золото: Рынок засомневался в американском долларе как резервной валюте...»
Татьяна Куликова
«Рост цен на золото: Рынок засомневался в американском долларе как резервной валюте...»
Татьяна Куликова
- В США сообщили о внезапном отступлении ВСУ в зоне СВО
- Небензя: Россия вернётся к вопросу о санкциях против Израиля
- Эстония «пригрозила» России
- Эксперт сказал, что мешает борьбе с украинскими дронами
- На Украине идет охота за переданным США оружием американских гангстеров
- Диетолог перечислила вред популярного у россиян продукта
Нельзя, не снимай
Дмитрий Ольшанский — о том, что будущее сильнее нас
Русская царевна в светлом платье ставит стул напротив зеркала.
Русская царевна в светлом платье залезает на стул.
Русская царевна в светлом платье держит камеру Kodak Brownie двумя руками и вопросительно смотрит в зеркало.
И она словно бы спрашивает у зеркала: как все получится? Хорошо ли я выйду, если руки не будут дрожать?
Ей интересно, что будет дальше — русской царевне.
И если бы я был зеркалом, я бы сказал ей: нельзя, не снимай. Убери Kodak, выброси стул подальше или хотя бы закрой лицо.
Но я не зеркало.
Я — тот, кто знает, что будет дальше. Но почему дальше все будет именно так?
О, если бы я был уверен, что все дело во временных трудностях где-то на фронте, в том, что доблестным воинам не хватило орудий и пушек, в военном заговоре, в заговоре петроградском, в том, что унтер Кирпичников и инженер Бубликов опрокинули трехсотлетнюю монархию, в том, что министры струсили, великие князья переприсягнули, а союзники быстро забыли, кто был их союзником еще недавно, в том, что новая власть сама развалилась, а доблестные воины вконец оборзели, в палачах, грузовиках, пулях, мандатах, штыках, семечках, сапогах, пулеметах и звездах, и грязных следах на полу, на стене и везде.
Но я не уверен.
А иногда мне даже кажется, что все эти страшные и знаменитые подробности неважны, что они были, но могли и не быть, а судьбу всего того, что будет дальше, определила русская царевна в светлом платье, когда забралась на стул со своим модным Kodak’ом, чтобы впервые попробовать снять саму себя.
Мы не знаем, каким будет будущее.
Нет, не так.
Мы не знаем, как оно придет.
Нам вечно кажется, что мы выбираем его для себя, осторожно пробуем его наощупь в ладонях, когда делаем что-то значительное, когда назначаем что-нибудь из происходящего — самым важным.
И все равно, думаем ли мы в этот момент про революцию и войну, про исчезающие деревни и набухающие города, про мертвецов, уложенных в десять слоев друг на друга, и про газеты, и диктора, а теперь даже твиттер в тот самый день, когда и тэ пэ, — или мы думаем про первую любовь, мальчика Сашу или девочку Веру, про смерть кого-то рядом, кто не должен был никогда умирать, про назначение, увольнение, переезд, секс, воспаление легких, казенный дом. Но мы всегда думаем, что произойдет нечто особенное — и с этого места начнет расти будущее, такое, как мы хотели, или другое. Почти всегда, кстати, другое.
Но что если будущее не открывает торжественно двери, как лакей из умершего театра, с его «Кушать подано»?
Что если будущее заходит к нам тихо, и его главное свойство — это какая-нибудь пока что мелкая, несущественная деталь?
Но если она уже здесь, в вашей комнате, в вашей жизни, то все: вы можете еще не знать, что будет дальше, но это «дальше» уже смотрит на вас, оно как Kodak, направленный в сторону зеркала, — в ваших дрожащих руках.
Вот улица, банальная московская улица, где половину домов давно снесли, а остальные грубо переделали, саму улицу три раза переименовали, а на месте церкви построили торговый центр.
И если сравнить ее — ту, какой она была сто лет назад, — с тем, что сейчас из нее получилось, сравнить и спросить: когда же все окончательно, безвозвратно изменилось? — то велик соблазн все свалить на перемену табличек. На снос церкви. На торговый центр, уж очень он дорогой и похабный, в конце концов.
Но если все было иначе? Что если улица — еще та, старая улица, где стояли хвосты неизвестно за чем, и в названиях лавок были фамилии владельцев, и кто-нибудь, вместо того, чтобы покупать свитер, наверняка исповедовался в левом приделе, — что если она навсегда изменилась в тот день, когда у дома напротив церкви остановился автомобиль?
Остановился, из него вышел офицер, зашел во двор и через пять минут вернулся. Шофер его ждал и скучал, машина уехала и больше никогда сюда не приезжала.
Кто мог тогда знать, что будущее — состоялось в эти пять минут?
Потому что теперь можно сколько угодно и что угодно называть и переназывать, сносить и строить, и снова сносить, и воссоздавать то, что было снесено раньше, и даже вывеску старинную можно найти и повесить, ну или хоть притвориться, что она старая, все-таки она похожа на ту, что тут раньше висела, но парковка, сплошная парковка у всех домов, бесплатная и за деньги, без всяких уже офицеров, но по-прежнему со скучающими шоферами, — она неизменна.
Она, эта всеобщая парковка на этой улице, — тогда, при жизни русской царевны в светлом платье, сделала свой первый неузнанный шаг, а потом еще, и еще. А потом все умерли, и все переименовали, и все снесли, и все построили заново, но автомобили, каждый раз разные, так и останавливаются на том же месте, хотя даже двора, куда уходил офицер, уже нет, но припарковаться-то все равно можно!
И если бы тот офицер знал, что его остановка — самая первая, как первое слово ребенка, — это единственное действие, единственное до сих пор длящееся событие, которому суждено уцелеть через сто лет, и все и всех пережить, — то что бы он на это сказал, тот офицер?
Слава Богу, он был здоровый, не склонный к пустым переживаниям солдафон, так что он вежливо улыбнулся бы, да и уехал.
Я любил свою подругу, а она меня — умеренно, скажем так. Потом разлюбила совсем.
Но интересно не то, из-за чего мы поссорились, — мужские преступления однообразны, — и не то, как я по ней страдал, и пытался вернуть ее, это еще скучнее, нет, важно то, что дней за десять до нашего окончательного расставания я купил книгу.
Книга и книга, что-то про Февральскую революцию, о том, как инженер Бубликов остановил царский поезд, а унтер Кирпичников взбунтовал Волынский полк. Но стол у меня пыльный, однажды случайно оставленные вещи лежат на тех же самых местах месяцами, а тут я взял и положил на него новую книгу, выбросив какой-то мусор, — и через десять дней она от меня ушла.
После того, как это случилось, и я впал в то мучительное, суетливое беспокойство, что известно любому брошенному, — я бессмысленно шатался по пустой квартире, и моя мысль упорно кружила вокруг одного и того же.
Книга про Февральскую революцию.
Я положил ее сюда, когда был счастлив, а теперь счастья нет, оно исчезло, но книга по-прежнему здесь.
И мне казалось, что она передо мной виновата.
И мне казалось, что она могла предупредить меня.
Ведь само ее появление было знаком, что любовь кончится: пока ее не было — не было и нашей ссоры, но как только я ее купил — все, начался обратный отсчет до момента прощания.
До момента, когда она останется лежать на столе, напоминая мне, что я покупал ее — и не знал, что будет дальше, а она, дрянь такая, уже все знала, и для того в мою жизнь и пришла, чтоб из нее выросло грустное будущее.
Чтобы оно — выдавая себя за какую-то книгу — меня, прежнего, пережило.
И я шептал: инженер Бубликов, ну как же вы не сказали мне, что она меня бросит!
И я шептал: унтер Кирпичников, да я бы вас расстрелял только за то, что вы не помогли мне удержать ее!
И им нечего было ответить.
Но теперь я все знаю.
Теперь я здоров, и не склонен к пустым переживаниям, — как тот офицер, первым остановившийся там, где все сгинет, кроме парковки.
И все-таки я хочу хоть кому-то помочь.
Помочь русской царевне в светлом платье, которая вот-вот залезет на стул перед зеркалом с Kodak Brownie — и сделает сэлфи, еще не зная, что скоро не будет ни стула, ни зеркала, ни ее камеры, ни ее самой, и только сэлфи, проклятое сэлфи — отныне будет всегда и у всех.
Я хочу предупредить ее.
Я готов даже сделать вид, что я — зеркало, лишь бы остановить ее, когда она спрашивает у меня: как все получится? Что будет дальше?
Я не могу рассказать ей, что будет дальше.
Но я стараюсь сказать ей: нельзя, не снимай.
Царевна не слышит.
И будущее, притворяясь всего лишь шансом сделать удачный кадр, — рождается в ее дрожащих руках.
- В Крыму разгромили ячейку неонацистской группировки
- Скончался режиссер Федор Петрухин
- Пациентка психбольницы умерла от большого количество выпитой воды
- На Петербург обрушится снегопад, в городе объявлен жёлтый уровень погодной опасности
- Небензя: Россия вернётся к вопросу о санкциях против Израиля
- Эксперт сделал прогноз курса доллара к лету
- Скончался режиссер Александр Пономарев
- В США сообщили о внезапном отступлении ВСУ в зоне СВО
- В Москве «гостья из будущего» мультяшным голосом расскажет о Хармсе
- СБУ: в Польше задержан подозреваемый в подготовке покушения на Зеленского