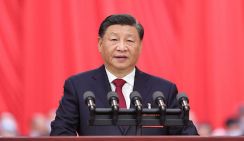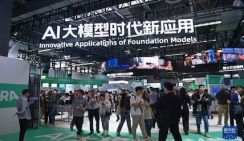«Трамп — марионетка, которая должна подписывать указы и выполнять команды...»
Валентин Катасонов
«Трамп — марионетка, которая должна подписывать указы и выполнять команды...»
Валентин Катасонов
- Матч «Балтика» — ЦСКА закончился потасовкой между тренерами
- Орбан ответил на призыв Ющенко остановиться
- Скончалась актриса Людмила Аринина
- Бойцы ФСБ выследили и уничтожили диверсионные группы ВСУ под Константиновкой
- В МИД Украины назвали абсурдными угрозы Ирана
- Глава МИД Ирана: Хваленый зонтик безопасности США оказался дырявым
- Вучич: Хорватия и Албания готовятся к нападению на Сербию
- Трамп: Несколько стран направят военные корабли в Ормузский пролив
Почему Алексиевич?
Виктория Шохина о новом лауреате Нобелевской премии 2015 года
Итак, лауреатом Нобелевской премии 2015 года стала Светлана Алексиевич (р.1948). Ожидаемо для букмекеров Ladbrokes, которые оценивали её шансы как 5/1. И в то же время — неожиданно. Ибо было слишком много пунктов, по которым Алексиевич никак не могла получить эту премию. Однако получила…
Алексиевич — автор книг «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время секонд-хэнд», которые считаются документальными. В связи с «Цинковыми мальчиками» против неё было подано несколько исков — от тех, кто воевал в Афганистане, и от матерей погибших «афганцев» (из судебного иска Тараса Кецмура: «…все, что изложено С. Алексиевич в газетной статье и в книге „Цинковые мальчики“, — вымысел и не имело места в действительности, так как я с ней не встречался и ничего ей не говорил».). Некоторые из этих исков были удовлетворены. Притом общественность, которую тогда, в начале 1990-х, принято было называть демократической, громко кричала о «политическом судилище».
То, что Нобелевская премия бывает не в меру политизирована, хорошо известно. Особенно по отношению к русской литературе. Но всё-таки её русских лауреатов — Бунина, Пастернака, Шолохова, Солженицына, Бродского — награждали, исходя не только из политической конъюнктуры, но и из литературных достоинств. Случай русскоязычной Алексиевич, которую, правда, наградили как белорусскую писательницу, — уникален и удивителен.
Наградили Алексиевич с формулировкой — «за многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время». А что её «многоголосое творчество» часто просто придумано, причем придумано довольно однообразно, этого Нобелевский комитет как бы и не заметил. Или, может, и правда, не заметил?
Последнее достижение Алексиевич, благодаря которому она и попала в кандидаты на премию, — «Время секонд хэнд», заключительная часть проекта «Голоса Утопии». Книга охватывает два периода нашей истории — 1991−2001 (часть первая), 2002−2012 (часть вторая). Цель автора — показать homo soveticus и запечатлеть следы советской цивилизации. Характерны названия главок: «Про то, что мы выросли среди палачей и жертв», «О времени, когда всякий, кто убивает, думает, что он служит Богу», «О людях, которые сразу стали другими после коммунизма». Но это пусть…
Главная беда — ощущение фальши, которое остаётся после чтения этого вроде бы документального повествования, вроде бы verbatim и non-fiction. Речи обыкновенных людей, записанные на диктофон, поражают воображение — люди говорят так, будто пишут дурную, тенденциозную публицистику: «Геополитика пришла к нам в дом. Россия распадается… Скоро от империи останется одно Московское княжество…» «Советское время… У Слова был священный, магический статус. И по инерции на интеллигентских кухнях еще говорили о Пастернаке, варили суп, не выпуская из рук Астафьева и Быкова, но жизнь все время доказывала, что это уже неважно…» И т.п.
Homo soveticus предстаёт со страниц этой книги в лучшем случае безнадёжными лузером. Он гордится честной бедностью, новой жизни не знает, её не принимает и знать не хочет. Для него
чтение «Доктора Живаго» и др. — главное в жизни. Один из плохо придуманных эпизодов книги — молодая женщина с больным ребёнком в больнице: «У меня всегда был под мышкой „Архипелаг ГУЛАГ“ — я его в ту же минуту открывала. На одной руке умирает ребенок, а в другой — Солженицын. Книги заменяли нам жизнь. Этот был наш мир».
Чаще же этот homo soveticus — редкостный подонок и сволочь. Так, переживший оккупацию еврей (в Белоруссии) рассказывает, как он впервые услышал слово «жид» — именно от советских людей, своих соседей. И советские крестьяне на евреев доносили. И советские партизаны над евреями издевались… Нет, немцы, конечно, тоже присутствуют — всё-таки война, гетто, — но как-то по касательной. А некоторые даже проявляют человечность: так, один немец, поняв, что мать рассказчика — русская, посоветовал ей не прыгать в общую яму-могилу.
Бывший энкавэдэшник-палач вспоминает: «…на войне я отдыхал. Расстреливаешь немца — он кричит по-немецки. А эти… эти кричали по-русски… Вроде свои… В литовцев и поляков было легче стрелять. […] Мы все в крови… вытирали ладони о собственные волосы… Иногда нам выдавали кожаные фартуки… Работа была такая. Служба».
А вот и лихие 90-е, в вспоминания о которых почему-то вмешивают Сталина: «Каждое утро во дворе находили труп, и уже мы не вздрагивали. Начинался настоящий капитализм. С кровью. Я ожидал от себя потрясения, а его не было. После Сталина у нас другое отношение к крови… Помним, как свои убивали своих…»
Сегодняшний день не лучше. Армянка, беженка из Баку, говорит дочери, которая хочет «походить по Красной площади». — «Туда не пойдем, доченька. Там — скинхеды. Со свастикой. Их Россия — для русских. Без нас».
Ошибки в мелочах тоже свидетельствуют против подлинности. Так, некто неизвестный («Из уличного шума и разговоров на кухне (2002−2012)») рассказывает о том, как он в 1993 году, отвечая на призыв Егора Гайдара к «москвичам, всем россиянам, которым дороги демократия и свобода», пошёл к Белому дому и там вроде бы таскал раненых. Однако те, кто отвечал на призыв Гайдара, не могут не знать, что он призывал прийти и спасать демократию не к Белому дому, а к Моссовету.
Есть места совсем уж несуразные. Вот несчастная мать вспоминает о любимом сыне, в 14 лет покончившим с собой. И уснащает свой рассказ множеством стихотворных цитат — от обэриута Введенского до Высоцкого. Читает стихи и «Василий Петрович Н., член коммунистической партии с 1922 года, 87 лет» (в версии 1993 года — с 1920 года, но это пустяки). Он же наизусть (!) воспроизводит пассаж из романа «Что делать?», будто бы своего любимого. А для придания разговорной живости этой слишком уж литературной речи то здесь, то там вставлены ремарки: «Из-за кашля опять неразборчиво»; «Почти кричит»; «Удивленно»
Есть места совсем уж невероятные. Женщина, у которой в Чечне погибла дочь («Олеся Николаева — младший сержант милиции, 28 лет»), вдруг вставляет в свою историю длинную историю воевавшего в Чечне офицера, которого случайно встретила в электричке. Излагает её она от его имени и в художественных подробностях: «Стоит старый чеченец и смотрит: нас полная машина дембелей. Смотрит и думает: нормальные русские парни, а только что были автоматчики, пулеметчики… снайперы. . И его самобличения эта женщина будто бы слово в слово запомнила: «Можно многое себе позволить… Ты — пьяная скотина и у тебя оружие в руках. В голове — один сперматозоид… …Работа палаческая… Умирали за мафию, которая нам еще и не платила». Ну и как можно поверить в то, что несчастная мать действительно всё это запомнила и рассказала на диктофон! И вот что интересно: Алексиевич даже не пытается придать своим сочинениям хотя бы правдоподобие, она напрочь лишена художественного слуха.
По Алексиевич, мы — фашисты, бандиты, стукачи, палачи, иногда жертвы или идиоты с томиком Солженицына под мышкой… Это такой сильно ношеный секонд хэнд из мифологии, которую принято называть либеральной. Предисловие к книге Алексиевич назвала «Записки соучастника», вроде бы смиренно признавая, что она — тоже homo soveticus. Но это всего лишь еще один художественный приём, ничего по сути не меняющий. Скорее — усугубляющий дело.
Потому что перед читателем не verbatim и не non-fiction, а беллетризованная публицистика, за которой проступает глобальная — пропагандистская — неправда.
А ведь если судить по восторженным откликам в СМИ или, скажем, в Facebook — ей верят. Хотя, сдаётся, что на самом деле далеко не все из её почитателей её читатели. Скорее, здесь действует принцип: «Не читал, но приветствую», обратный известному: «Не читал, но осуждаю».
Литераторы, дающие комментарии событию, исходят из некоего общего представления о трудах Алексиевич: дескать, вот документ, голоса реальных людей, последняя правда
И причем тут литература? И причем тут журналистика? Книги Алексиевич — не более чем фейки, правда, необычно большого объёма.
Награждение Светланы Алексиевич — это демонстративное попрание и эстетики, и этики. И всё лишь ради того, чтобы бросить в сторону России еще одну информационную бомбу… Ну, может, еще, чтобы сделать книксен перед батькой Лукашенко. Так или иначе, но плата за престиж Нобелевской премии несоразмерная.
- Тренер «Динамо» похвалил команду за победу над «Ростовом»
- Собянин: Средства ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве
- Форвард «Зенита» объяснил, почему праздновал гол в маске для ныряния
- Швейцария отказала США в пролете двух самолетов-разведчиков из-за войны в Иране
- В МИД Украины назвали абсурдными угрозы Ирана
- Силы ПВО за 10 часов уничтожили над регионами России 280 дронов
- Матч «Балтика» — ЦСКА закончился потасовкой между тренерами
- ЦСКА на выезде проиграл «Балтике»
- Вучич: Хорватия и Албания готовятся к нападению на Сербию
- Бойцы ФСБ выследили и уничтожили диверсионные группы ВСУ под Константиновкой