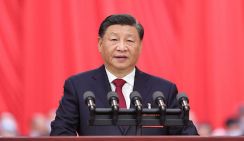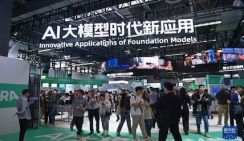«Застройщики клянчат господдержку — даже те, финансовое положение которых устойчиво...»
Татьяна Куликова
«Застройщики клянчат господдержку — даже те, финансовое положение которых устойчиво...»
Татьяна Куликова
- Враг ударил по базе отдыха под Ростовом
- США начали еще одну военную операцию
- Strategic Culture: такого от Ирана США и Израиль не ожидали
- Демократы в Сенате США выступили резко против войны с Ираном
- Трамп «ударил» канцлера Германии
- ВСУ атаковали Брянщину, ударив по электропоезду
- Новейшие комплексы ПВО не справились с иранскими дронами
- Главные новости на утро 4 марта
Песни о Сталине
Виктория Шохина ко дню рождения вождя
Как-то в особняке Горького сидели за ужином Сталин и писатели. Владимир Луговской начал произносить избыточно комплиментарный тост в честь вождя. Но, увидев его каменное лицо, замолчал. И тут вдруг вступил Георгий Никифоров, находящийся в сильном подпитии: «Надоело! — закричал, — Миллион сто сорок семь тысяч раз пили за здоровье товарища Сталина! Небось, ему это даже надоело слышать…» Гости замерли. Сталин встал, пожал оратору руку: «Спасибо… правильно. Надоело это уже». Наверное, банальная лесть его к тому времени не тешила. Хотелось чего-то неординарного.
Между сатирой и одой
Существует догадка, что отчаянные стихи Мандельштама: «Мы живем, под собою не чуя страны…» (ноябрь 1933-го) Сталину понравились, особенно в той части, где: «А вокруг его сброд тонкошеих вождей,/ он играет услугами полулюдей, /Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет — /Он один лишь бабачет и тычет». Но вряд ли Сталину понравились «жирные пальцы», «тараканьи усища» и намек на то, что его мать изменяла отцу — «широкая грудь осетина» … И еще вопрос: кто решился показать вождю такие стихи? И что с этим смельчаком потом стало?
Пастернак, послушав про «кремлевского горца, душегуба и мужикоборца», сказал: «Это не литературный факт, но акт самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу вас не читать их никому другому». Мандельштам не послушался. И вскоре был отправлен в ссылку. Там, после всех страданий, после навязчивых и мучительных галлюцинаций (ему казалось, что его расстреляют), после попытки самоубийства, поэт решает восславить Сталина в надежде, что это его спасет. Он пишет длинную, темную, витиеватую «Оду» (январь 1937-го), из которой адресат вряд ли может извлечь что-то лестное для себя. Скорее — наоборот.
Он свесился с трибуны, как с горы, —
в бугры голов. Должник сильнее иска.
Могучие глаза мучительно добры,
густая бровь кому-то светит близко
То же можно сказать и о написанном вослед стихотворении «Если б меня наши враги взяли…» С известной кодой:
И налетит пламенных лет стая,
Прошелестит спелой грозой Ленин,
И на земле, что избежит тленья,
Будет будить разум и жизнь Сталин.
Вдова поэта, Надежда Мандельштам, предлагала последнюю строку читать так: «Будет губить разум и жизнь Сталин». Возможно, на уровне подсознания поэта так она и звучала. Но сколько надо безумной отваги, чтобы закладывать мину в строки, предназначенные для смягчения участи! Впрочем, стихи эти опубликованы не были, а стало быть, желаемого эффекта произвести не могли. Даже если и попали к Сталину.
Иосиф Бродский считал «Оду» Мандельштама «одним из самых значительных событий во всей русской литературе XX века. …Одновременно и ода, и сатира. …После „Оды“, будь я Сталин, я бы Мандельштама тотчас зарезал. Потому что я бы понял, что он в меня вошел, вселился». Так оно и вышло: через год Мандельштама снова арестовали и отправили по этапу в лагерь на Дальний Восток. Оттуда он уже не вернулся.
Другие стихи
Пастернак писал иначе. Его парафраз Пушкина — «Столетье с лишним не вчера…"(1931) — наверняка вождю понравился:
Но лишь сейчас сказать пора,
Величьем дня сравненье разня:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Равно как стихи, так сказать, прямого действия: «Мне по душе строптивый норов…», в которых Пастернак самым лестным — но не банальным! — образом сравнивает Сталина с «артистом в силе», с поэтом. И возносит его на немыслимую высоту: «А в те же дни на расстоянье за древней каменной стеной/ Живет не человек , — деянье: / поступок ростом с шар земной/ Судьба дала ему уделом предшествующего пробел. / Он — то, что снилось самым смелым, но до него никто не смел…» (январь 1936-го). Написано вроде бы по просьбе Бухарина, тогда редактора «Известий». Там они и были опубликованы 1 января 1937 года. А на первой полосе красными буквами знаменитое высказывание вождя: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее».
Но не только (а может, и не столько) стихами мог отличиться Пастернак перед Сталиным. Когда погибла жена вождя, Надежда Аллилуева (ноябрь 1932-го), он не стал подписывать коллективное соболезнование писателей. Написал от себя лично: «Присоединяюсь к чувству товарищей. Накануне глубоко и упорно думал о Сталине; как художник — впервые. Утром прочел известье. Потрясен так, точно был рядом, жил и видел». Так и было опубликовано в «Литературной газете», отдельно. И заметно. (Кстати, у Сорокина в «Голубом сале» Пастернак и Надежда Аллилуева — любовники).
В 1936 году Пастернак сочтет необходимым написать Сталину личное письмо в связи с известными словами о «лучшем, талантливейшем поэте эпохи»: «…горячо благодарю Вас за Ваши недавние слова о Маяковском. <…> Последнее время меня, под влиянием Запада, страшно раздували, придавали преувеличенное значение (я даже от этого заболел). <…> Теперь, после того как Вы поставили Маяковского на первое место, с меня это подозрение снято». Здесь много чего намешано, но больше всего, наверное, безотчетного страха перед завистью товарищей по цеху. И вера — вовсе не беспочвенная, нет! — в то, что Сталин поможет.
Пастернак «просто бредил Сталиным», говорила Надежда Мандельштам. Действительно, он и демонстрировал, и культивировал особую, интимную связь между собой и вождем «Я сперва написал Вам по-своему, с отступлениями и многословно, повинуясь чему-то тайному, что, помимо всем понятного и всеми разделяемого, привязывает меня к Вам». В стихах тоже: «Как в этой двухголосной фуге/Он сам ни бесконечно мал,/ Он верит в знанье друг о друге /Предельно крайних двух начал». А ведь Пастернак знал и видел, что творится вокруг. Значит, отказывался понимать? Или так действовала на поэта харизма вождя?
Харизма — политическое обаяние личности вне зависимости от результатов её действий. Ощущая себя воплощением коллективной воли, харизматический лидер склонен к еще большей самоуверенности, к чувству всемогущества и безнаказанности. Таким Сталин и был.
«Суровый, жесткий человек, /Не понимавший Пастернака», — так определял его Наум Коржавин. Но вождь понимал и Пастернака, и других сочинителей. Его действительно тянуло к художникам слова, но эту свою слабость (страсть) он реализовывал по-садистски. Звонил, например, Пастернаку и спрашивал, почему тот не заступается за только что арестованного Мандельштама. (На самом деле Пастернак заступался и за Мандельштама, и за сына и мужа Ахматовой.) Цену поэтам и цену своим звонкам Сталин знал. И наслаждался их страхом и восхищением.
Однако харизма, сколь бы сильна она ни была, действует не на всех. Отчасти это связано с личными обстоятельствами. Просчет Сталина именно здесь: он либо не должен был никого подвергать репрессиям, либо, говоря цинично, посадив, не выпускать, а род истреблять под корень. Ибо те, кто сидел, и их близкие, как правило, не подпадали под обаяние вождя (хотя были и подпадавшие). «Что делает монахиня?» — спрашивал Сталин про Ахматову. А она писала страшные стихи:
Я приснюсь тебе черной овцою
На нетвердых, сухих ногах,
Подойду, заблею, завою:
«Сладко ль ужинал, падишах?
Ты вселенную держишь, как бусу,
Светлой волей Аллаха храним…
И пришелся сынок мой по вкусу
И тебе, и деткам твоим?".
И понятно, почему Сталину не понравились её стихи «Слава миру», сочиненные в 1949-м, чтобы выпустили сына. Они были подчеркнуто декларативны, формальны. Сталин же хотел искренности.
Герой из сказки
Главный персонаж сказки «Тараканище» Чуковского напоминает Сталина - и усами, и повадками. Так её и воспринимали современники, а сам автор очень боялся преследований за сатиру на вождя. Притом сказка была написана, когда Сталин еще находился в тени, в 1921 году. Но как звучит!
Вот и стал Таракан победителем,
И лесов, и полей повелителем.
Покорилися звери усатому.
(Чтоб ему провалиться, проклятому!)
А он между ними прохаживает,
Золоченое брюхо поглаживает:
«Принесите-ка мне, звери, ваших детушек,
Я сегодня их за ужином скушаю!".
И как откликается в антисталинских стихах Мандельштама и Ахматовой! Из чего следует: возможности поэзии безграничны. Говорят, кстати, что Сталин сказку «Тараканище» любил и часто цитировал. И это, пожалуй, самое интересное.
Другая сказка у Твардовского, младшего современника великих поэтов. Он любил Сталина, как отца родного. (А кроме того, умел играть по существующим правилам.) В поэме «Страна Муравия» (1934−1936) Сталин появляется как сказочный герой — на вороном коне, в шинели, с трубочкой. Сделано мастерски:
Росла, невнятная сперва,
Неслась, как радио, молва,
Как отголосок по лесам,
Бежала по стране,
Что едет Сталин, едет сам
На вороном коне.
Здесь и трогательная подробность, придающая молве достоверность: «И будто он невдалеке / коня того поил в реке». И простодушно-мечтательный — такой русский! — расчет на то, что вождь-царь во всем разберется и примет меры: «В одном краю, в другом краю /глядит, с людьми беседует /и пишет в книжечку свою /подробно все, что следует». Встречи с этим сказочным Сталиным и ждет герой поэмы Никита Моргунок.
Стихотворение «О Сталине» (1952) тоже исполнено умело, с диалектикой. Вождь предстает в нем как выразитель мыслей и чаяний всех и каждого и в то же время как один из всех.
Отцом народов Сталина начали называть со второй половины 1930-х, в том числе и в стихах. Твардовский же заговорит о нем как об отце по-настоящему только после его смерти. А пока в заключительной части стихотворения «О Сталине» проступают лишь повадки главы рода:
Совет? Наказ? Упрек тяжелый?
Неодобренья горький тон?
Иль с шуткой мудрой и веселой
Сейчас глаза поднимет он?
Стоит сказать, что от Сталина Твардовский не отречется никогда. В самые антисталинские 1960-е годы в его кабинете на даче висел портрет вождя, закуривающего трубку, под ним — Некрасов, на другой стенке — Бунин…
Цветаева о Сталине не писала. Но странным образом собратья-поэты чувствовали в ее просодии что-то подходящее для стихов о вожде. Так, Мандельштам в последних строках своего антисталинского стихотворения: «Что ни казнь у него, то малина. /И широкая грудь осетина» — увидел «что-то цветаевское» и хотел их отменить (свидетельство Эммы Герштейн). Еще любопытнее опыт Владимира Набокова. В том самом 1937-м в пародии на Цветаеву, в рваном ритме, с внутрисловными переносами, он воссоздаёт впечатляющий образ вождя:
Иосиф Красный, — не Иосиф
прекрасный: препре-
красный, — взгляд бросив,
сад вырастивший! Вепрь
горный! Выше гор! Лучше ста Лин-
дбергов, трехсот полюсов
светлей! Из-под толстых усов
Солнце России: Сталин!
Сказочные образы — даже вепрь, не говоря уже о Солнце России! — вполне могли Иосифу Виссарионовичу понравиться. Уж точно больше, чем стихи Мандельштама и даже Пастернака. (А вот товарищи по цеху, живи автор в СССР, накатали бы на него не один донос.)
… Да, дифирамбы с выдумкой явно нравились Сталину больше, чем затасканные славословия. Хотя кто знает, о чем он думал на самом деле. Ведь Никифорова, напавшего по пьяному делу на тост Луговского, в 1938-м расстреляли. Луговской же благополучно пережил репрессии.
- Миронов заявил о «цветочной мафии» в России
- Что несет война в Иране? Эксперт назвал сценарии для нефти и курса доллара
- Названы причины сонного паралича
- В США пропал генерал, который скрывал данные об НЛО
- Главные новости на утро 4 марта
- В марте в один российский регион вернется настоящая зима
- Враг ударил по базе отдыха под Ростовом
- Демократы в Сенате США выступили резко против войны с Ираном
- ВСУ атаковали Брянщину, ударив по электропоезду
- Генерал Купер отчитался об уничтожении 17 иранских кораблей