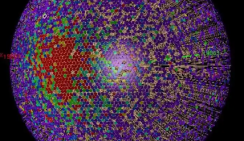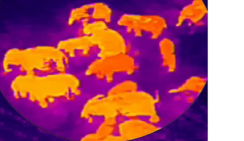«Возможно трехстороння встреча состоится в ином составе: Трамп, Лукашенко, Зеленский...»
Владимир Васильев
«Возможно трехстороння встреча состоится в ином составе: Трамп, Лукашенко, Зеленский...»
Владимир Васильев
- Зеленский устроил ловушку для молодежи: разрешение на выезд – способ загнать в военкомат
- Хуситы предрекли Израилю мрачные дни за убийство премьер-министра
- В Одесской области дроны РФ ударили по судну с грузом для ГУР Украины
- Украинский дрон атаковал автомобиль российского депутата
- Форвард «Зенита» отказался общаться с прессой из-за рыбалки в Мурманске
- Солнце выбросило плазму в сторону Земли
Между законом и художеством
Владимир Карпец в память о Петре Паламарчуке
Так получилось, что из дней жизни одного из самых жизнелюбивых русских писателей конца прошлого века Петра Георгиевича Паламарчука (1955−1998) наиболее запечатленным был день его смерти, которым были чреваты полностью и целиком последние два его земных года.
В русской словесности наиболее точно, спокойно и реалистично о смерти сказал Максимилиан Волошин: «Это просто переход из одной комнаты в другую». Примерно одинаков для всех и сам процесс этого перехода: является некое существо — Ангел смерти или просто Смерть, причем описания ее в сказках и легендах как скелета с косой абсолютно точно — и начинает разрезать тело по членам. Внешние этого, конечно, не видят, и им кажется, что перед ними лежит застывший покойник, начинающий свой путь преображения — гниения, путь «червя неусыпающего». Это тоже так, и это необходимо, но и у души, разлученной с «братом-телом», начинается собственная судьба — она проходит по своим НЕТ-ДА и, запечатанная образом собственной смерти, пребывает среди них в остановленном, вне времени ожидания чаемого нами Воскресения мертвых, когда, преображенная в стихиях, ей явится, подобно жениху-царевичу, ее собственная же плоть. Вопрос, может быть, вообще не в состоянии «после» перехода, а в том, чтобы не сорваться «перед ним» и «во время» (время, разумеется, условное) этого перехода, избегнуть коего могут только очень, очень немногие, те, о которых сам Победитель Смерти сказал, что они не узрят смерти вовеки.
Именно так — «НЕТ-ДА» — и называется предпоследний и, несомненно, лучший роман Петра Паламарчука, в котором под маской «запьянцовской подруги героя — Нины» (как аляповато мазанул в аннотации некий издательский лудила) странствует по земной юдоли и покидает эту юдоль его собственная душа. Между прочим, в нашем древнейшем, пеласго-этрусском языке Нина означает цвет Неба. «Цвет небесный, синий цвет полюбил я с малых лет…»
Умер раб Божий Петр накануне праздника Сретения Господня и Недели о блудном сыне, однако еще в седмицу о мытаре и фарисее, в субботу, в девять утра. Печать образа.
Праздник Сретения был его любимым. Каждый год мы с ним в этот день распивали бутылку хересу, а порой и не одну.
Петр Паламарчук еще от ранней юности расстался с комсомольскими да и с либеральными иллюзиями и стал православным христианином. Более того, он всегда был монархистом и неисповедимыми путями Промысла, а может быть, благодаря своей «хохлацкой» хитринке, умудряясь как-то сохраняться в одном из так называемых политических вузов Москвы, писал диплом (без ссылок на «единственное учение»!) о международно-правовом режиме русской Арктики, основываясь на идеях адмирала Колчака и предваряя довольно занудную правовую материю словами о необходимости арктических исследований для будущего государства. Пойди он этим путем дальше, может быть, не было бы сейчас цены ему в Аналитическом управлении Генштаба, тем более, что и дед маршал, и отец Герой Советского Союза…
Но еще он был художником. Причем тогда, в юности, — художником подлинным, умудрявшимся в своих ранних повестях и рассказах «сочетать не сочетаемое», как в праздник Ивана Купалы — Иоанна Крестителя сочетаются строгий пост и неистовое гулево. Отголоски этих повестей сохранялись в его прозе до самого конца, и поэтому особые ревнители морали, хотя и признавали его своим, но поглядывали косо…
Дело здесь в очень простом. Православие совершенно справедливо требует от христианина только двух образов, двух путей. Первый — «ангельский», монашеский, иноческий, иной. Путь не от мира, который только и есть, по определению святых Отцов, «истинное художество». И второй — жизнь в миру, путь многодетного, хозяйственного отца семейства, в поте лица и с молитвой добывающего хлеб насущный, Путь, при котором «не до художеств». Поэтому, не отрицая, подобно графу Толстому, искусства вообще и снисходя к человеческим немощам, Церковь сегодня предпочитает в искусстве (и справедливо, если исходить из Ея основной цели — спасения от «мира, плоти и диавола») трогательную посредственность погружениям в бездну. Нилус и Шмелев для последовательно православного всегда предпочтительней Рембо и Цветаевой. Так сложилось, по крайней мере к ХХ веку, когда оказалось почти утрачено напрочь древнее художество «плетения словес», «прогласов», многосмысленных летописей-хроник, знаменного пения, «физиологов» и «хожений».
Однако путь художника изначально отличен от пути строго религиозного, и противоречий здесь никогда не замазать, не скрыть и не смешать ни хамам от «модерн арт», но и не авторам благонамеренных брошюр о том, будто бы «Пушкин — наследник русской святости», а Чайковский был девственником. Это приходится осознавать трезво и безо всяких эмоций. Путь истинного художника — это путь аномии, беззакония. Художество не каноническое, не аскетическое — это всегда «левый» путь, путь блудного сына (во всех смыслах этого понятия). Это не мужественное шествие к общему Раю, но сугубо личная (и тщетная) попытка обрести Рай «здесь и сейчас» — в самостоятельном (следовательно, демиургическом) творении ангельской красоты или же «лилового срама», в безумии вакхическом, в платоновском пире, в грешной любви… Потому из художников часто произрастают «политические экстремисты» (на самом деле просто люди, идущие во всем до конца) — как левые, так и правые. И надо говорить ясно и твердо: это не хорошо и не плохо, это так.
Куда ведет тот путь в конечном свете, нам знать не дано. Ясно одно — всякий подлинный художник пребывает «на стране далече», а тот, кто пытается идти по двум противоположным путям сразу, не приходит никуда.
Петра Паламарчука разорвало. Когда-то, в юности, он написал рассказ, который назвал «Краденый Бог», — о незадачливом хиппующем студенте, укравшем на севере древнюю икону. Рассказ этот не опубликован. Он сбивчив, написан полуритмической прозой, страшен. По-моему, это лучшее, что написал Паламарчук, даже лучше, чем «НЕТ-ДА». Где-то в середине 80-х Петр передал его для печати, убрав все шероховатости и слегка изменив фабулу. Получилось совсем другое. Сделал он это не «страха ради цензорска» — цензура начала уже отмирать, — а совершенно сознательно и искренне. Желая самоисправления. Вообще Петр делал сознательно и искренне все и всегда. В конце 70-х и начале 80-х уже совершенно впадавший в маразм позднекоммунистический режим пытался истерично сорвать злобу не на будущих его же предателях из собственных рядов, давнехонько присматривавшихся к «чикагским мальчикам», а на верующих, художниках и писателях, особенно на верующих. И именно тогда Петр Паламарчук на свой страх и риск подпольно стал фотографировать разрушенные и оскверненные храмы (из коих многие были по-идиотски засекречены), рискуя, по крайней мере, «волей». Все это вошло в отпечатанные сначала «за бугром», а ныне и здесь знаменитые «Сорок сороков».
Петр был одним из немногих, очень немногих истинных знатоков Москвы. Я родился в Питере и потому не всегда люблю Москву, с ее лицемерием, ярмарками, доносами и питьем чая из блюдца. Не люблю и когда не верят слезам. Но в конце концов это дело вкуса. Что же до сегодняшних ненавистников Москвы из числа «русских сепаратистов», то этих не люблю еще больше, и здесь всегда стану на сторону «московских ордынцев».
Петр же, несмотря на очевидные малороссийские корни, был как раз москвичом истинным, и, прогуливаясь с ним по замоскворецким переулкам с неизменным хересом, я на время становился таковым же и сам. Хорошо помню наш незамысловатый эзопов язык по телефону, когда договаривались, чем из «Самиздата» и «Тамиздата» мы обменяемся во время следующей такой прогулки. Ивана Шмелева мы называли Тургеневым — по имени-отчеству, а Набокова, естественно, Маяковским. Были у Петра, между прочим, и вызовы в «контору» (искали «Сорок сороков», да и не только), и дикая, возможно, сломавшая всю его жизнь провокация-преступление, когда при доселе не расследованных обстоятельствах была убита женщина, с которой Петра связывала многолетняя, еще со школы, любовь… Будь она жива, возможно, был бы ив и сегодня и сам Петр.
Судьба действительно шла за ним, «как сумасшедший, с бритвою в руке». И вот тогда «спасительнее» всего оказалось «примкнуть». Ибо сверху донизу система уже разделилась внутри себя: стало ясно, что марксизм более не способен ее держать, хотя монолит еще казался нерушим, слуги ее, и в администрации, и в культуре, и даже в Церкви, разделились на «демократов» и «наших». Стать одним из двух означало попросту выжить. Каждый из нас так или иначе стал. Это не спасло государство, и нам «третьего пути» не открыло.
Может быть, говорить об этом неуместно, но я почему-то чувствую, что имею право говорить об этом, ибо сам прошел почти такой же путь. Налицо очевидно: по мере того как Петр Паламарчук все более смыкался — не с Православием, с которым «смыкаться» не надо, надо просто быть православным — а с «православной идеологией», он все хуже и хуже писал. Самоцензура делала свое — крепкое словцо не спасало сути, — исчезали глубины, возможно, впрочем, кто-то скажет, что «глубины сатанины», и будет прав. Но или ты художник — и идешь сквозь огонь, жертвуя обществом, семьей, даже, возможно, спасением, или ты христианин-инок-аскет, или мирянин-труженик. Не мудрствующий лукаво Петр хотел быть и христианином, и художником, писать, как он сам говорил, «на темы Солженицына языком Набокова». Но этого не дано.
Так же на самом деле не совместимо художество и правоведение, шире — художество и закон. В том числе закон религиозный. В одинаковой степени говорю здесь и о себе самом.
Как говорил наш общий с Петром знакомый, в те времена сотрудник издательства, «или мухи, или пиво». И топтание на месте приводило к саморазрушению.
Следует без всякого стеснения (и это тоже свое!) говорить также и об этом — вино есть вещь очень серьезная, более серьезная, чем это кажется. Речь ни в коей степени не идет ни о каком трезвенничестве — сие глупость, Но «путь вина», то есть отдание себя в его волю и власть, приносит плоды только в случае действительно «левого», аномического пути художника, пути «безумных мудрецов» и «проклятых поэтов» — Мусоргского, Рембо, Венедикта Ерофеева, Зверева. Имитируя «путь вина», не отправившись в подлинно свободное плавание — «за всех противу всех», — не заставишь «зеленого змия» (народное присловье, если понимать его не в моралистическом смысле, едва ли не точнейшее) принести плоды сада Гесперид…
Если все же серьезно о «пути вина» (а это очень серьезно)… Странным образом мы оба с Петром, все время «болтаясь возле и около», оказались вне «южинского круга», не оказались рядом с тем же самым Евгением Всеволодовичем Головиным. Мы не «учились плавать».
Ко мне понимание некоторых вещей из этой области (условного «южинского») пришло позже, когда и в самом Южинском переулке «ничего такого» не было, но это уже иная тема…
Петр был «взят извне» Он оставался внутри «старого правого», «белого», с чем я сейчас тоже не во всем согласен: если ты внук Красного Маршала, все же, по-моему, не следует писать о бароне Врангеле. Каждый несет в том числе и родовой крест, и его следует донести до конца. Это не касается темы Царя: Царь не Белый, и не Красный, точнее, и то, и другое. «Белой кости» и «черной кости» для Царя нет, по крайней мере, не должно быть.
И еще часто думаю: на чьей стороне был бы Петр сегодня ?
Так прошло много лет — кропотливые, общественно полезные исследования о Москве — Третьем Риме и Новом Иерусалиме, несколько «романов без героя», участие в монархическом движении, начало поддержки со стороны нынешней московской администрации, подписывание каких-то бумаг за что-то и против чего-то, даже какая-то премия к 850-летию кипучей-могучей…
И вдруг — почти гениальный, словно прорвавшийся из самых глубин существа, de profundis — «НЕТ-ДА».
Открылась бездна, звезд полна —
Звездам числа нет, бездне — дна…
Роман был не без усилий напечатан в умеренно-правом, консервативном (в совершенно нормальном смысле этого слова) журнале «Москва». Однако кое-кто, в том числе и в священнических облачениях, стал обвинять даже и сам журнал в «неразборчивости» вплоть до призывания неких прещений — из-за «обилия эротических сцен». Заметим: эротических сцен в романе нет. — ДА? — НЕТ.
Заметим о эротике. Она вообще гораздо чаще мерещится, чем есть на самом деле. Тогда еще речь шла еще больше о «классике», сегодня — о «ЛГБТ». А ведь действительно гениальные слова; «в СССР секса нет». Его на самом деле и в России нет. Везде есть, а в России нет. Мерещится только.
Но Петр Паламарчук действительно вскорости ушел. Ушел тяжело, несколько лет болея, попадая в реанимацию. Ходили слухи, что врачи подменили ему диагноз. Не знаю, не следователь, но может быть все что угодно. Действительно, причина смерти так и осталась неизвестной. Приятели из бывших диссидентов вовсю намекали на «КГБ» (в смысле ФСБ). Не только не думаю, но уверен: кому-кому, а «конторе» смерть эта не нужна была совсем. Просто не нужна, да и не выгодна. «Другое, другое, другое», как писал Набоков. Перед смертью Петр в забытьи говорил по-гречески, по-византийски, на языке Отцов, в земной жизни языком этим не владея. Он ушел слишком рано — в сорок три года. Слишком поздно — когда уже литература была не нужна.
Почему-то вспоминается один эпизод из Древнего Патерика. Некоего старца стали обличать во всех мыслимых и немыслимых грехах. «Да, я такой, и такой, и такой, и даже такой…» — смиренно опустив голову ответствовал старец. «Ты еретик, авва!» — раздался голос из толпы. «Нет, я не еретик!» — вскричал старец, гневно подняв глаза.
Петр Паламарчук уж точно был не еретик. Когда с ним случалось заговаривать о «четвертой ипостаси», или о герметизме, или о чем-то подобном, он однозначно отвечал «тьфу!».
Царствие ему небесное. Горнее Замоскворечье, Горняя Остоженка, Горняя Маросейка, Горняя Ордынка, Горний Иерусалим…
- Две трети британцев не хотят воевать за родину
- Польша отправила на Украину в принудительном порядке 15 украинцев
- Названы регионы, где чаще нарушают ПДД
- В Одесской области дроны РФ ударили по судну с грузом для ГУР Украины
- Трамп пригрозил вводом войск в Чикаго
- Солнце выбросило плазму в сторону Земли
- Форвард «Зенита» отказался общаться с прессой из-за рыбалки в Мурманске
- Тренер «Пари НН» назвал игру против «Зенита» лучшей для его команды в сезоне
- Зеленский устроил ловушку для молодежи: разрешение на выезд — способ загнать в военкомат
- Украинский дрон атаковал автомобиль российского депутата