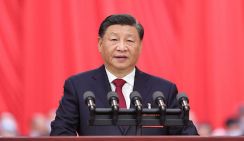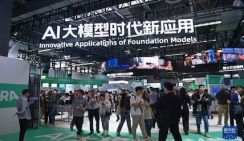«Активы наших диссидентов "морозили" на Западе не только ради их лояльности...»
Сергей Обухов
«Активы наших диссидентов "морозили" на Западе не только ради их лояльности...»
Сергей Обухов
- Начата наземная операция против Ирана
- Гиперзвуковые ракеты обрушились на Тель-Авив
- Профессор Дизен указал на просчет США и Израиля с Ираном
- В США объяснили, для чего Трамп ударил по Ирану
- Атакован Саратов и Энгельс, есть пострадавшие
- НАТО из-за Ирана готовится применить статью о коллективной обороне
- Польша оказалась против сил НАТО на Украине
- СМИ: Израиль ударил по трем сотням систем ПВО Ирана
Воля к романтизму
Кирилл Анкудинов: попытка манифеста
Этот текст не относится к моей постоянной рубрике «Прогулки по журнальному саду» (в которой я объявляю временный перерыв, беря тайм-аут до марта).
В этом тексте я сделаю то, что хотел сделать давно — постараюсь подробно разъяснить всем, что такое — «новый романтизм», так милый моему сердцу.
Дело в том, что «новый романтизм» — отнюдь не рекламный бренд, потребный для раскрутки меня и моих друзей (мне нет дела до того, являются ли мои стихи романтическими или не являются). «Новый романтизм» — не литературное направление, включающее в себя некий очерченный круг авторов. «Новый романтизм» — это не «куртуазный маньеризм» и даже не «новый реализм».
«Новый романтизм» — это перемена взгляда на существующие культурные явления. «Новый романтизм» декларирует изменения не объектного, а субъектного характера; он не презентует новые литературные объекты, он призывает к смене оптики у субъекта, наблюдающего за актуальным культурным процессом.
Чтобы объяснить всё это, придётся начать с примеров, далёких от литературы.
Пустые пьедесталы
Десятилетие назад мой район Майкопа «Черёмушки» угодил в историю, привлекшую внимание общественности, блогосферы и даже федеральных СМИ.
Международная религиозно-культурная организация, базирующаяся в г. Хельсинки, спланировала глобальный проект — установку памятника Святого Николаю в трёх городах мира — в Хельсинки, ещё где-то… и в Майкопе.
Для памятника выбрали черёмушкинский сквер. Уже воздвигли пьедестал — внушительный бетонный куб, но тут возроптала адыгская интеллигенция, расценив памятник христианскому святому как «экспансию христианства против адыгов» («нас и так осталось мало, наш родной язык на грани исчезновения, так ещё и Св. Николая нам христиане навязывают…»).
Подобные недоразумения интересны мне лишь в той мере, в какой они могут вызвать кровопролития. Данное недоразумение мирно иссякло — и тут же перестало меня волновать. Как всякое недоразумение, оно многослойно. Во-первых, статуи святым (да ещё и вне храмового пространства) — не вполне православная традиция (и, разумеется, хельсинкская религиозно-культурная организация не православна). Во-вторых, адыгейский язык действительно на грани исчезновения (утверждения, что вечерами в Майкопе не услышать русскую речь — не соответствуют действительности). В-третьих, по моему личному убеждению, памятник Святому Николаю в Майкопе — никак не может навредить ни адыгейскому языку, ни адыгам (впрочем, адыгам виднее). Наконец, в-четвёртых, памятник все равно у нас поставили — в другом районе.
Недоразумение иссякло… а дальше пошло то, что уже не волнует никого. Кроме меня (вот такой я странный человек: меня не тревожит то, что тревожит всех, и беспокоит то, от чего остальным ни холодно, ни жарко).
Итак, в Черёмушках не воздвигли памятник ни Святому Николаю, ни кому-либо ещё, а пьедестал — остался и стоит — уже десять лет. И я ежедневно — как минимум, два раза в день — прохожу или проезжаю мимо бетонного куба. Надо сказать, что черёмушкинский сквер — место чудесное, дивное, идиллическое, особенно весной или осенью. Молодые мамы катают коляски, старики отдыхают на скамейках, всё дышит уютом, умиротворением, тишиной. А в центре райского местечка — пустой пьедестал…
И среди адыгов, и среди русских достаточно фигур, памятник которым не вызовет осуждения ни у адыгов, ни у русских. В крайнем случае, можно изваять иностранца, Шекспира, например, или Сервантеса, дабы никому не было обидно. А коли мне скажут, что Коран запрещает изображать любых людей и животных, я отвечу, что тогда возможно водрузить на куб абстрактную загогулину и объявить, что она-де символизирует «победу всего хорошего над всем плохим». Ан нет — нема ни черкесского просветителя, ни русского представителя, ни Шекспира, ни голубя мира, ни загогулины — только пьедестал. Стоит-торчит уж десять лет: я полагаю, что он точно так же простоит и двадцать лет, и тридцать, и пятьдесят, и сто лет, и двести.
В беседах с друзьями я называл его «памятником сатане» (как известно из ортодоксальной христианской теологии, сатана — тень Бога и не имеет никакого собственного природного облика). Но, скорее, сие — памятник Ничеве, памятник пустоте.
В новелле Густава Майринка индийский брамин материализовывал мысли венских прохожих при помощи чудесного прибора. Тут на беду брамину подвернулся австрийский офицер, который в момент действия прибора вообще не думал («Вот ещё — думать-соображать, пущай штатские думают-соображают!»), и в итоге материализовалась летающая чёрная дыра величиною с яблоко, которая стала втягивать в себя окружающие мелкие предметы. Брамин заявил, что это вернулась сама Предвечная Пустота (Шуньята), и что она через тысячу веков заглотит мироздание целиком.
Ведь пустота — это действенная бытийно-мистическая сила, и я как убеждённый идеалист (как платоник и как гегельянец) вполне осознаю это. Вот почему меня так ужасает пустой пьедестал в моём районе. Я расцениваю его как вызов Бытию; ну, пускай, неумышленный вызов. Как постыдную вымарку-дыру в Книге Бытия.
Вот ещё пример: по основной работе я — вузовский преподаватель. Естественно, для того чтобы я мог работать, необходимо присутствие студентов в аудитории. У меня имеются свои педагогические принципы: я никому ни разу не поставил двойку на экзаменах, но если ко мне на лекцию приходит лишь один студент, я его не отпускаю домой — я говорю ему: «Давайте вообразим себя последним форпостом Культуры» — и начинаю читать свою лекцию. Так вот, если шесть-семь лет назад присутствие лишь одного студента в аудитории было неприятным ЧП, то сейчас такое — в порядке вещей, и часто на мою лекцию не приходит никто (вот она — Ничева). Причин этому много, я не стану останавливаться на них; замечу только, что решающую роль играет нежелание студентов ходить на занятия — притом нежелание не направленное на меня лично. В некоторых группах немногочисленные студенты говорят мне: «Наши одногруппники не ходит ни к кому из преподавателей, а не только к вам. Просто не хотят никуда ходить».
Или вот: много лет я вхожу в жюри городского конкурса молодых литераторов. Десятилетие назад на наш конкурс присылались сотни рукописей в разной стилистике; среди них можно было отыскать и хорошие произведения. В прошлом году к нам поступило пятнадцать рукописей — слабых по качеству и однообразных по темам и стилю — однообразных не потому, что их авторы знакомы между собой, а потому, что культурное поле, распадаясь, актуализирует архаические смыслы, единые на всех.
Вот уже четверть века я наблюдаю каждодневный процесс разложения российского социокультурного поля. То, что я узнаю из общефедеральных новостных каналов, из газет, из блогосферы — в принципе, соответствуют тому, что я вижу в своей обыденной жизни; первая реальность дополняет вторую, тотальный распад на общем метауровне подтверждается столь же тотальным распадом на микроуровнях (моего) быта. И я опечален этим, поскольку сознаю, что количественно нарастающая деградация социокультуры неизбежно приведёт к качественным катастрофическим изменениям. Даже если эти изменения не произойдут в пределах моей жизни, мне от того не легче.
…Хмурым декабрьским утром я, как обычно, приехал в свой вуз, вновь увидал пустую аудиторию (студенты опять не явились), стал возвращаться домой — и вдруг вообразил-представил, как всю жизнь буду ходить мимо пустого пьедестала, приходить в пустые аудитории, рецензировать пустопорожнее творчество Анатолия Наймана (эта перспектива ужаснула меня более всего), взбивать пустоту, ловить Ничеву, иметь дело с людьми, которые спят наяву, не хотят ничего и — в своём нежелании уже мало что могут (ибо разучились) — тут меня захлестнуло такое бешеное отчаянье, что я побежал куда глаза глядят, споткнулся и грохнулся на асфальт. Хорошо хоть ничего себе не сломал…
Ничева реально калечит и убивает. Ничева превращает российский народ в скопище спящих людей, которые ничего не желают и многое не умеют (умеют лишь тупо выживать — именно тупо, поскольку тонким стратегиям выживания уже разучились тоже). Эти люди связаны между собою только в своих замкнутых корпорациях. Россия становится страной миллиарда дружеских кругов, тёплых компаний, малых ячеек. Вот — ячейка-корпорация Газпрома. Вот — ячейка-корпорация Министерства Обороны РФ, корпорация депутатов Госдумы РФ, корпорация друзей Аллы Пугачёвой, корпорация литераторов из «толстых литжурналов», корпорация служащих отделения полиции, корпорация писателей-членов районного лито (и так далее). Каждая из этих корпораций дорывается до чего-то своего (Газпром дорывается до зарубежных покупателей российского газа, оборонщики — до госбюджета, друзья Пугачёвой — до ТВ, литжурнальцы — до литжурналов, полицейские — до прохожих на улице, члены лито — до районной газеты). И вот итог: на ТВ по всем каналам двадцать четыре часа в сутки кажут личную жизнь Филиппа Киркорова, а в литжурналах двенадцать раз в году публикуют Наймана. Замкнуто-корпоративное ТВ становится сомнительной вещью, а замкнуто-корпоративные литжурналы — перестают работать вообще: ведь книги Наймана в московских букмагазинах уценяют до десяти рублей, потому что эти книги не нужны читателям, а кому ж тогда нужны журналы с бесконечным Найманом? Всё же, что оказалось за пределами кругов-корпораций — вне сферы доступа, в нетях; здесь — мерзость запустения, территория Ничевы, вузы без студентов, заводы без рабочих, сёла без крестьян, исполнители без слушателей, поэты без публикаций, пьедесталы без памятников.
Общество Ничевы — не стена (которую всегда что-то цементирует), оно — словно груда плоских камней, не скреплённая ничем (скреплённая Ничевою). Такое общество способно стоять бесконечно долго — но ведь оно стоит лишь до первого толчка; после малейшей встряски всё в нём посыплется и рухнет.
Как прогнать узурпаторшу Ничеву с пьедесталов? Как разбудить россиян? За что зацепиться? Где искать точку сборки, опираясь на которую станет возможным преодолеть всераспад?
Точка сборки
Лет пять-шесть назад я выражал некоторые надежды на действующую государственную власть; например, я в нескольких публикациях посоветовал государственной власти взять на себя организацию альтернативной литературно-логистической системы (поскольку имеющаяся — заражена антироссийскими бациллами). Я прекрасно понимал, что это утопия, но тогда у меня была хоть малейшая, хоть однопроцентная, но надежда на власть. Надежды больше нет. Государственная власть разлагается на глазах. Я уже не надеюсь на действующую власть, но и на оппозицию тоже не надеюсь: я не надеюсь на политику вообще, поскольку любая политика идеологична, а ни одну идеологию в современной России невозможно внедрить без насилия, без огня и меча. Нынешнее российское население таково, что оно не поймёт и не примет любую идеологию (Путин держится столь долго потому, что он принципиально не идеологичен).
Мне очень не хочется, чтобы в моей стране что-то бы внедрялось огнём и мечом, поэтому я считаю, что в сфере политики мне искать нечего.
Спущусь этажом ниже — с идеологического уровня на национальный.
И здесь мне ловить нечего. Дело в том, что не нахожу русскую нацию. Это не доставляет мне радости, я очень хочу, чтобы русская нация была — однако я вижу: её сейчас нет. Есть многое: есть огромнейший русский этнос, есть русский народ, соединённый языковым пространством, а русской нации — нет, поскольку нет единого русского культурного поля (есть только остаточное искусственное советское культурное поле, и оно стремительно разрушается). Но нация без национального культурного поля — это всё равно, что автомашина без двигателя. Она никуда не уедет.
Приведу простое доказательство…
Польша XIX века не имела государственности, зато польская нация была. Поляк мог сказать: «Я не люблю жадину Анджея, зануду Стася и дурака Пшибося, но все мы читаем нашего великого Мицкевича, все мы слушаем музыку нашего Шопена, и потому мы — поляки». Точно так же мадьяр XIX века (у которого тоже не было своего государства) мог сказать: «Я люблю Пётефи, и Иштван любит Пётефи, значит мы с Иштваном — единая венгерская нация». А если я скажу: «У меня, и у Васи с Ваней есть наша русская-народная-родная-хороводная Надежда Бабкина; это значит мы с Васей и Ваней — единая русская нация…»? Не правда ли, прозвучит смешно? Тут можно поставить любую современную фамилию — это будет выглядеть не менее смешно (или странно). Мне нечем единиться с Васей и с Ваней; единой культуры у нас нет, и ничего единого (помимо русского языка) у нас нет. Я скажу Васе: «Я боготворю патриота Солженицына» — а Вася ответит: «Да пошёл ты со своим предателем Солженицыным куда подальше!»; я скажу Ване: «Я исследую творчество русского поэта Юрия Кузнецова», а Ваня спросит: «Кто это?». На том наш диалог прекратится, и единую нацию мы не явим.
Несколько лет назад проводился социологический опрос: жителям Москвы, Петербурга и российской глубинки предлагалось ответить, чувствуют ли они единство с другими людьми по каким-либо аспектам (предлагались различные аспекты — от гендерных, возрастных и профессиональных до религиозных и национальных). Я ожидал, что столичным чиновничье-интеллигентским игрушкам-безделушкам вроде «общего гражданства» («все мы — россияне») в глубинке будут противопоставлена грубо-кондовая «кровь и почва» («все мы — русаки»). По результату опроса глубинка (в сопоставлении с Москвой и Питером) дала сильное процентное снижение по всем аспектам (включая национальный аспект). Это означает, что жители глубинки воспринимают в качестве столичных игрушек-безделушек любое единение (в том числе, единение по национальному признаку).
Что ж тогда объединяет наших людей?
Их объединяет Ничева.
Подавляющее большинство населения нынешней России — не левые и не правые, не оппозиционеры и не лоялисты. У них нет идеологии, они — пьедесталы, на которые ничего не поставлено. Точно так же большинство этнически русских в национальном аспекте — люди без определённой национально-культурной идентификации. Им не до идеологий и не до национальных вытребенек. Они выживают. Это — не их вина, а их беда.
Как гласит восточная мудрость, из кувшина можно вылить только то, что есть в кувшине. Если у людей нет ни идеологической, ни национальной идентификации, бессмысленно искать точку сборки на политико-идеологическом или на национальном уровне. Придётся спускаться ещё глубже, на более низкие этажи.
Сформулирую вопрос так: у человека может не быть определённой идеологической, национальной, религиозной, профессиональной (и т. д.) идентификации, но что-то же имеется даже у бомжа. Что именно?
Мой ответ таков: у каждого человека наличествует его собственное «Я».
Значит, искомая точка сборки — собственные «Я» (разных) людей.
Для пробуждения идеологических смыслов создаются политические организации — партии, блоки, парламентские фракции, иногда — подпольные кружки; для пробуждения национальных смыслов — национально-культурные организации. А что способно пробудить в человеке его индивидуальное «Я»?
Здесь потребны тонкие механизмы. Человеческое «Я» стимулируется не партиями-фракциями, не газетами и не клубными посиделками, а исключительно искусством. Притом искусством преимущественно вербальным. Вербальное искусство — прежде всего литература. Самый потенциально Я-стимулирующий жанр литературы — поэзия. В наши дни — чаще «синкретизированная поэзия» (то есть поэзия, исполняемая под музыку) нежели «просто поэзия» (без музыки). Хотя «просто поэзия» тоже сойдёт.
Замечу, что искусство, пробуждающее «Я», искусство, стимулирующее конфликт между «Я» и «Не-Я» — существует. Такое искусство принято именовать «романтическим». По мнению советского литературоведа И. Ф. Волкова, романтизм впервые изобразил человеческую личность самодостаточной, не детерминированной (во всей доромантической литературе — начиная с античности — личность была детерминирована чем-либо, а в романтизме она по-фихтеански самостановится, вырастает из себя). Лидия Гинзбург заметила, что постромантизм (то есть, реализм, пришедший романтизму на смену) вернул личностную детерминированность (на сей раз — в социальном формате). Таким образом, романтизм — практически единственное литературное направление, центральным объектом которого является «Я». Для неромантической литературы «Я» вторично и факультативно, а для романтизма «Я» — первично. Вот почему, обращаясь к современной литературе, центрированной на индивидуальном «Я», уместно применить термин «новый романтизм» (если кто-то подберёт термин получше, пусть подскажет его мне). Тем более что авторы такой литературы нередко обращаются к узнаваемой внешней атрибутике конкретно-исторического романтизма (чаще всего, она, эта атрибутика, приходит к ним, пройдя через массовую культуру).
Собственно говоря, романтизм никуда не пропадал. В советском искусстве семидесятых годов был романтик Владимир Высоцкий, оформивший для нас тогдашнюю социокультурную ситуацию; на рубеже восьмидесятых и девяностых годов явился романтик Виктор Цой (можно вспомнить и Александра Башлачёва, и Янку Дягилеву, и Егора Летова, и многих-многих ещё).
В нынешней культуре романтизм не просто присутствует; он — доминантен. Я как многолетний руководитель майкопского литературного объединения и как член жюри городского конкурса молодых литераторов неплохо разбираюсь в низовой литературной жизни; могу заметить, что творчество майкопской молодёжи — романтизм на 80%.
Если «новый романтизм» способен стать искомой точкой сборки и если он столь популярен (по крайней мере, у молодёжи), отчего б его не раскрутить?
Тут вмешивается один очень неприятный фактор…
Сословные предрассудки
Однажды я сопоставил двух поэтов, двух Александров — Александра Скидана, модного питерского литературного деятеля, эссеиста, культуролога, лауреата премии Андрея Белого за 2006 год — и Александра Родимцева, выпускника моей родной майкопской школы № 22 (вот она — за окнами), а ныне — студента трёх вузов (в том числе, студента Литинститута и Петербургского института журналистики).
Продолжу это сопоставление и приведу по одному стихотворению этих поэтов.
Начну со Скидана. Предваряющий скидановское стихотворение эпиграф из Поля Валери, пожалуй, опущу, а само стихотворение — вот оно:
У терминологических лакун,
как в термах инкубатора — лаканов,
но что Ему тот шлейф улик в веках?
В числителе не вычесть семиотик;
у ласок Гебы привкус-ротозей,
а знаменатель — заземленье в мифе.
Так дышит мнимость; прерванный плеврит
на самом склоне эластичной шкурки,
«шагреневой» и скважистой как «бульк»
у полости, защёлкнувшей реторту.
Молочных дёсен мыльный разогрев.
Возгонка (поимённая) в наличник
закупоренный: горлышко греха,
бессонниц, молоточками истомы
раздробленных; кровосмешенье; блеф
плотвы и крючкотвора-псалмопевца.
Инкуб с инкубом — ангельский ли стык?
Из мёртвой точки смертного влеченья,
восхищенный до откровенья вор,
и сам похищен хищнический голос:
молчанье грезит о самом себе.
И только. Как Нарцисс водобоязни.
На мой взгляд, это — плохая поэзия: эрудиция нужна, чтобы прояснять картину мира, а не чтобы затемнять её. Это не более чем моё частное мнение; возможно, у данного стихотворения обнаружится много поклонников.
А вот — стихотворение Родимцева «В синих отсветах молний». Привожу его целиком (несмотря на смешную аллюзию со «стерхом» в последней строфе; она — ненамеренная: текст был написан задолго до прошлогодней осени):
В синих отсветах молний рождается новый день.
Утром стадо проснётся и выйдет на следующий круг,
Ну а я каждый вечер опять ухожу в тень,
Моя тень для меня — это первый, единственный друг.
В жидком олове утра срываясь к последней черте,
Я не вижу небес за железной решёткой окна.
Кто уйдёт на закат, почему возвратятся не те?
Почему разный путь, но дорога от века одна?
В синих отсветах молний рождается новый год.
Белым росчерком пишет грозу поднебесный поэт,
Предрассветная тень по осенней дороге идёт
Так обманчиво-медленно, только спасения нет…
А в осеннем дожде — столько слов, столько правды небес,
Но её не услышать за шумом бегущей воды,
Солнце глухо, и каждый день молча уходит за лес,
Ветер мог бы сказать, но и он заметает следы.
В синих отсветах молний рождается новый век.
Он такой же, как этот, но только он будет без нас,
Вдаль по лезвию бритвы уходит слепой человек,
Он несчастен — он вдруг осознал, что такое «сейчас».
Но такая судьба — всем познать эту боль суждено,
Потому ли печально мы смотрим на алый закат?
Это — небо; запомни, тебе ещё падать на дно…
И запомни, что солнце наутро вернётся назад.
В синих отсветах молний рождается новый мир.
Он — не наш, он не сдался ещё до поры топору.
Уходи… навсегда замолкает мелодия лир…
Только девушка молча стоит у креста на ветру.
В свете молний по лунной дорожке ты всходишь наверх,
Шум дождя заглушает и ветер уносит твой крик…
С прострелённым крылом умирает последний стерх…
В синих отсветах молний рождается новый миг.
Стихотворение Скидана — плохое, но и стихотворение Родимцева — не очень хорошее. Я специально искал — не лучшее стихотворение в эстетике «нового романтизма» (поскольку принадлежность наилучшего стихотворения к «новому романтизму» мне было бы непросто доказать), но самое типичное, самое показательное для «нового романтизма» стихотворение — со всеми плюсами и минусами «нового романтизма».
У стихотворения Александра Родимцева много минусов. Однако у него есть один-единственный (зато несомненный) плюс: в этом стихотворении не живёт Ничева. Она заполонила стихи многих современных поэтов (как записных «модернистов», так и признанных «традиционалистов»), но в стихах Родимцева Ничевы нет (в отношении скидановского текста — не могу быть экспертом: я в нём ничего не понял, а где не понять ничего, там может затаиться Ничева).
Такие стихи, как приведённое мною стихотворение Скидана, большинство сочтёт за крайность, но к этим стихам всё же останется уважение: за ними — солидная культурная оснастка, лаканы, семиотики и инкубы: как не уважить культурку? Такие же стихи, как стихотворение Родимцева, автоматически отправятся в игнор (я не за то, чтобы подобные стихи возводились бы в шедевры; я против того, чтобы они отправлялись в игнор).
Поскольку я знаком с литературной жизнью Майкопа, имею право сказать: делать в Майкопе социокультурную ставку на Родимцева, раскручивать Родимцева — всё равно, что читать лекцию одному студенту. Возможно, это — донихотство — смешное, нелепое, идеалистичное, но некий итог может выявиться. Делать же в Майкопе ставку на Скидана — всё равно, что читать лекцию в аудитории, где нет ни единого студента; это — клиническое безумие. Скидан Майкопу не нужен, а вот Родимцев Майкопу (ещё) нужен.
Наверное, стихотворение Скидана поймут и примут в питерской или в московской литературной кофейне — но больше его не поймут и не примут нигде. А я не хочу, чтобы поэзия жила б только в питерских и московских литературных кофейнях; я желаю, чтобы поэзия жила б везде — и в Майкопе, и в Нальчике, и в уральском посёлке, и в сибирской избе, и на Таймыре. Российская социокультура разрушается не оттого, что в России мало денег-кэша-башлей-баблосов и даже не от того, что башляют не тем, кому надо башлять; Россия распадается оттого, что в ней осталось мало поэзии (в узком и в широком смысле этого слова). Если ограничить поэзию рамками питерских и московских литературных кофеен, а прочее — гневно заклеймить, тогда в России поэзии не будет вообще. Тогда останется одна Ничева. Именно поэтому я хочу хвалить Родимцева, а не Скидана.
Меня спросят: «Как же хороший вкус?».
А я вернусь к временам Владимира Высоцкого.
Как известно, советская система, признавая Высоцкого в качестве артиста, совершенно не признавала его в качестве поэта (Высоцкий увидал опубликованным лишь одно своё небольшое стихотворение). Принято считать, что у Высоцкого существовали политические разногласия с советской властью. Будь так, все фильмы с Высоцким власть отправила бы на полку. Современники же Высоцкого объясняли своё неприятие его поэзии не политическими, а эстетическими (и отчасти этическими) мотивами («у этого человека нет вкуса, он пошлый, вульгарный, низкопробный, он похабно рычит и хрипит, он насаждает блатные ценности…»
В действительности эстетические (и этические) мотивировки скрывали за собою бессознательный испуг из-за разницы экзистенциальных зарядов Высоцкого и современного ему (позднесоветского) общества. Степень (романтического) конфликта между «Я» и «Не-Я» у Высоцкого была явлена гораздо сильнее, чем у остальных советских людей; это вызывало бессознательное беспокойство, сублимировавшееся в эстетические (и этические) претензии. Такое иногда бывает: за эстетикой и этикой прячется экзистенция: у Анны Карениной был «переизбыток жизни», и она слыла «порочной» ещё до того как изменила мужу; в Высоцком тоже был такой же «переизбыток жизни» (воспринимавшийся как «порочность»).
Прошло более тридцати лет со смерти Высоцкого. Сейчас Высоцкий не только признан обществом; он стал ключевой фигурой для нашего осмысления семидесятых годов. Это значит, что общество проглотило (и усвоило) «блатного хрипуна» Высоцкого без вреда для себя — и даже с пользой. Почему б тогда обществу не проглотить и Родимцева?
Принято считать, что стихи, в которых наличествуют «Лакан», «семиотика», «Геба», «инкубы», аллюзии из Мандельштама и закрученные обороты вроде «знаменатель — заземленье в мифе» — это правильные стихи (даже если это плохие стихи); так же принято считать, что стихи, в которых есть слова «толпа», «герой», «меч», «бродяга», «менестрель», «лира», аллюзии из Виктора Цоя и обороты вроде «ветер уносит твой крик» или «ухожу на закат» — это дурные, безвкусные, графоманские, быдляцкие стихи (даже если это хорошие стихи).
Напомню золотые слова умницы Михаила Леоновича Гаспарова: «Бескультурья не бывает, бывает только чужая культура (или субкультура)».
Автоматическое приятие текстов с «лаканами» и столь же автоматическое неприятие текстов с «героями, уходящими на закат» и «менестрелями» — не более чем сословный предрассудок. А сословные предрассудки хороши, если они полезны всему обществу и плохи, если они вредят ему.
Я уважаю элитистские ценности — но не тогда, когда они подвергаются инфляции. Элитизма (и элит) не должно быть слишком много. Честь и отвага «моего Сида» — неколебимые ценности; но когда по дорогам разорённой Испании XVII века толпами стали бродить нищие идальго, вызывая друг друга на поединки, клянча милостыню у крестьян, и не работая, потому что «благородному дону позорно работать» — это уже не ценности, а что-то другое. Я наблюдаю критиков, бесконечно мусолящих гавриловых, даниловых, осокиных и скиданов в виду поиска «новых путей в искусстве» — на фоне расцвета «неоромантической литературы» — и мне вспоминаются картинки из испанского быта: элитизм Добычина и Мандельштама — величие «моего Сида»; элитизм Осокина и Скидана — гонор нищего идальго из комедии Лопе де Вега.
Лев Толстой дал замечательное слово, бытовавшее в языке российской интеллигенции начала XX века (но, увы, выпавшее из интеллигентского лексикона) - «опрощение».
Я не могу однозначно сказать, хорошо или плохо стихотворение Александра Родимцева (оно и хорошо, и плохо); но я осознаю: для того, чтобы его не проигнорировать, придётся опроститься. Романтизм — явление архаичное по отношению к более поздним «геологическим пластам культуры» — к реализму, модернизму, постмодернизму, а для восприятия даже недавней архаики нужно опрощение. Архаика архаике рознь: романтизм пребывает на смежном временном участке-уровне по отношению к его ложному двойнику — к сентиментализму. Между тем, романтизм я обожаю, а сентиментализм — ненавижу, потому что сентиментализм размывает и оглупляет человеческое «Я», а романтизм — оформляет и закаляет «Я» в его столкновениях с «Не-Я». По моему мнению, иногда опрощение и (умеренное) обращение к архаике необходимо; в больших дозах архаика — яд, но в малых дозах она — целительное снадобье. На нижних этажах современной российской культуры «неоромантизма» много, и он никому не нужен. Я полагаю, что из этого бросового материала возможно приготовить «лекарство против Ничевы».
Сделаю два частных комментария, упреждая возможные возражения.
Во-первых, поскольку «неоромантизм» сейчас загнан снобами на нижние этажи культуры (фактически — в подполье), уровень качества большинства неоромантических текстов оставляет желать лучшего. Это значит, что надо бороться за общее качество романтического дискурса — не отвергая романтический дискурс как таковой. Если я отмечу, что в вышеприведённом стихотворении Родимцева имеют место локальные недостатки (к примеру, явное нарушение ритмики в пятнадцатой строке), я поступлю правильно; если же я высокомерно скажу, что это стихотворение — ерунда, на которую не стоит тратить время («то ли дело Осокин и Скидан…»), это будет неправильно.
Во-вторых, романтизм имеет свойство оформляться в разные идеологии. Иногда эти идеологии могут быть неприятными. Я полагаю, что с плохими идеологиями можно бороться на идеологическом уровне (отвергая идеи, но принимая романтизм). Да и, честно говоря, даже самая отвратительная идеология — не хуже Ничевы. Быть с Ничевою — остаться без идеологий вообще; Ничева сгрызёт, уничтожит способность к идеологическому мышлению; а поскольку человек не может не воспринимать Бытие, россияне за неимением идеологий начнут пробавляться только мифологиями.
…Я всецело отдаю отчёт в том, что мой манифест — утопичен до предела.
Однако фокус с романтизмом уже удался в первый раз — в семидесятые годы, когда Владимир Высоцкий объединил всех позднесоветских людей — от членов Политбюро до магаданских бичей, от академиков до разнорабочих. Фокус с романтизмом удался и во второй раз — в восьмидесятые годы, когда Виктор Цой объединил моё поколение.
Отчего бы фокусу не получиться и в третий раз?
- Маткапитал в России превысит миллион рублей
- Новости СВО: Армия России давит на ВСУ у Константиновки
- Гиперзвуковые ракеты обрушились на Тель-Авив
- Россия вводит ГОСТ на творог
- Курды опровергли свое участие в наземной операции против Ирана
- Над Сочи гремят взрывы, работает ПВО
- Польша оказалась против сил НАТО на Украине
- В США объяснили, для чего Трамп ударил по Ирану
- СМИ: Израиль ударил по трем сотням систем ПВО Ирана
- 15 из 10: Трамп доволен войной с Ираном