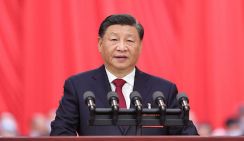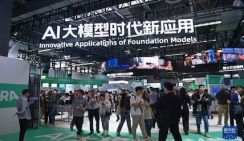«Застройщики клянчат господдержку — даже те, финансовое положение которых устойчиво...»
Татьяна Куликова
«Застройщики клянчат господдержку — даже те, финансовое положение которых устойчиво...»
Татьяна Куликова
- Врачи назвали самую опасную еду на столе
- Российский суд не выдал Румынии самого разыскиваемого преступника страны
- Зеленский сообщил, от кого Украина готова принять гарантии безопасности
- Избивали час, а потом принесли умирающего матери: под Екатеринбургом ищут отморозков, убивших молодого парня
- Деньги перевесили здравый смысл: В КПРФ заявили об угрозе всей системе ООПТ
- Онколог разъяснил, как у Лерчек могли пропустить 4-ю стадию рака
- Популярный симптом повышает риск диабета, болезни Альцгеймера и артрита
- Politico: Окружение Зеленского шокировано его выпадами в адрес партнеров Украины
Замять не удастся
Роман Богословский к 130-летнему юбилею Евгения Замятина
Дмитрий Быков писал в журнале «Дилетант» еще в январе: «В этом году, 1 февраля по нынешнему стилю, надо бы отметить 130-летие Евгения Замятина, но широкий читатель вспомнит о нем вряд ли. После краткого периода посмертной славы в 1987—1990 годах, когда роман «Мы» широко переиздавался, иногда в одном томе с другими великими антиутопиями XX века — с «1984», скажем, или с «Дивным новым миром», — Замятин, говоря словами его старшего товарища Блока, «стал достояньем доцента».
Вы правы, Дмитрий Львович, надо бы вспомнить Замятина. И мне, его земляку, было бы стыдно этого не сделать. И вот — делаю.
Фамилия Замятина прежде всего ассоциируется у меня со школьными годами и учительницей литературы Антониной Андреевной, которая рассказывала, что Евгений Иванович — это человек, который прославил нашу маленькую Лебедянь наряду с основателем пианистической школы Константином Игумновым. Но чувствовалось, что отношение ее к литератору-земляку весьма неоднозначное: казалось, она не может разобраться в себе, не знает, как относиться ей, коммунистке, к писателю, который написал антикоммунистический роман «Мы». Но такой ли уж он антикоммунистический? Для учительницы ответ был однозначным, для меня сегодня — нет.
Судьба антиутопии «Мы», я бы сказал, витиеватая, как и у самого Евгения Ивановича. Замятин закончил его в 1922 году, но вышел он в СССР только в 1988-м, в журнале «Знамя». До этого роман был опубликован за границей: первая публикация на русском языке относится к 1952 году — «Мы» тогда издали в Нью-Йорке. До этого он вышел в английском переводе (1924 год), затем был переведен и на другие европейские языки, в частности на чешский.
В марте прошлого года в своей программе «Поверх барьеров с Дмитрием Волчеком» на радио «Свобода» Волчек говорил: «Он (роман „Мы“) вышел сначала в 1924 году в английском переводе, потом в переводах на другие языки, а первая попытка русского издания в Праге, в эсеровском журнале „Воля России“, была выдана за обратный перевод с чешского. Редактор Марк Слоним даже специально исказил текст, чтобы обмануть советскую цензуру, но все равно в СССР эта публикация вызвала скандал и стала одной из причин эмиграции Замятина».
Есть еще и недоказанная версия: она заключается в том, что рукопись романа или перепечатки с нее имелись у некоторых советских литдеятелей, и скандал вокруг произведения разразился вне зависимости от того, что оно не было издано — тревогу и волнение вызвала сама рукопись, само присутствие подобного текста на территории СССР. Что же это за скандал? Он сводился к постоянному в то время детерминизму: роман «Мы» подрывает основы молодого советского государства, и автор насмехается над идеями марксизма-ленинизма в частности, равно как и над мировой революцией вообще. Критики забыли, что еще в 1906 году Замятин стал большевиком и принимал участие в революционной жизни Петербурга, за что его арестовали и выслали на родину в Лебедянь. Кому нужны былые заслуги?
Что интересно: Замятин на всю жизнь остался убежденным социалистом, и критика им отдельных проявлений социализма ложилась как бы поверх основных убеждений, не затрагивая их целостности, или, что вернее, его убеждения выросли до космических масштабов, до вселенского социализма, во главе которого — свободный человек. Именно поэтому, вероятно, из партии Замятин все же вышел, пробыв в ней всего пару лет — тесны стали оковы. Вполне естественно, что молодая советская литноменклатура не восприняла и не поняла писателя. Ничего удивительного — ни его одного. Конечно, кто же в двадцатые годы хотел и мог размышлять о тонкостях мировосприятия отдельного литератора? Зачем? Это чуждо, это лишнее, никакой духовности нет. Кто мог поверить, что Замятин видел дальше и больше, чем сиюминутная борьба взглядов и установок и кому это было тогда интересно?
Сам автор в предисловии к французскому изданию романа 1929 года писал: «Одна из тем, пока еще робко затрагиваемых в советской литературе, — это вопрос об отношении личности и коллектива, личности и государства. На практике этот вопрос разрешен в пользу государства, но это решение не может быть только временным… Именно эта проблема, правда, в очень утопической, пародийной форме, в виде reductio ad absurdum одного из возможных решений, является основой всего моего романа…» Можно автору не поверить, можно подумать, что он просто маскирует цель (идеологическая диверсия против коммунизма) высокими словами о личности, государстве и их взаимодействии. Можно, если бы не одна существенная деталь.
Деталь эта — т. н. «английские» произведения Замятина — повесть «Островитяне» и рассказ «Ловец человеков», которые были написаны под впечатлением от пребывания в Великобритании, куда писатель был командирован по работе в 1916 году (наблюдал за строительством ледоколов для российского флота). Свою мысль по поводу двух этих произведений (и несомненной связи их с романом «Мы», написанным впоследствии) я хочу проиллюстрировать вспомнившейся мне по случаю написания этой статьи передачей о «Свидетелях Иеговы», которую вел профессор-сектовед Александр Дворкин.
В частности, Дворкин вспоминает, как читал некий рассказ одного американского иеговиста (название рассказа, к сожалению, неизвестно) о том, что будет происходить, когда наступит Армагеддон и уцелеют одни лишь самые верные иеговисты, попав в иеговистский рай (передаю слова Дворкина неточно, приводя их по памяти). Итак, день иеговиста в раю. Утром иеговисты ходят по пустующим квартирам, собирая серебряные вилки и ножи — иеговистам драгоценности нужны даже в раю… Затем иеговист спрашивает у жены: «Что сегодня по телевизору, дорогая?» Жена отвечает, что сегодня пророк Иезекииль будет сам толковать свою книгу. Потом к ним приходят друзья и они решают, на какой бы фильм сегодня сходить. Решают пойти на фильм «Разорванное сердце» — о дружбе Ионафана с царем Давидом, причем в постановке самого Ионафана; затем ужин в китайском ресторане. Заканчивается день уж совсем патетично: умершая мама одного из иеговистов воскресает, радуется, что попала в иеговистский рай, и по этому случаю со всей компанией на пикнике с барбекю пирует сам царь Давид. И вот так ежедневно на протяжении бесконечности — именно бесконечности, которую Гегель окрестил дурной, а иеговисты называют раем.
Иронизируя над чопорным миром такой вот дурной и бездушной математики, где «таблица умножения мудрее, абсолютнее древнего Бога», и пишет Замятин «Островитян» и «Ловца человеков». Он то ли иронизирует, то ли иронизирует, одновременно сокрушаясь. Как всякий крупный художник, Замятин жонглирует чувствами, эмоциями и смыслами, сводя их в некий единый поток своей прозы, создавая однородный сплав из разрозненных частей. Викарий Дьюли из «Островитян» живет по четко заданной схеме: «Завтрак. Две страницы комментариев к „Завету“. Полчаса — в парке… Посещение больных…». Человека, сбитого машиной на улице и волею судеб попавшего в полумертвом состоянии в дом этого механического британца Дьюли, Замятин окрестил в повести «инородным телом». Жизнь Викария распланирована по минутам, он «перебирал пальцами, как будто отсчитывал: во-первых, во-вторых, в-третьих…», и спасение сбитого «инородного тела» никак не входило в его планы. Не напоминает иеговистский рай? По-моему, вполне себе: дурная бесконечность замкнутых в самих себе многолетних и многопоколенческих штампов, бесконечный отсчет, расчет и пересчет всего и вся.
То же удивление, та же насмешка над чопорными традициями, созданными словно из одних лишь болтов, шестеренок и механизмов, сквозит в рассказе «Ловец человеков». Ну, к примеру: «Наверху, в спальне, миссис Лори еще раз оглядела чулки с распоротым швом; разложила все по соответствующим ящикам комода, старательно, с мылом, вымыла лицо; и вывесила из шкапа новые брюки мистера Краггса: в них он пойдет в церковь». В них он пойдет в церковь. И так каждый день, день за днем, до скончания века.
Механическое общество тоталитарной системы и однобокое традиционалистское общество Англии для Замятина — одно целое. Писатель Замятин не с советской системой боролся, он боролся против системы вообще, в глобальном смысле, против уравниловки, против приведения чего-либо в соответствие с чем-либо. Замятин против тех самых ходячих молотков, которые показал Алан Паркер (британец, кстати) в своем фильме «Стена» много позже смерти писателя.
Замятин копал куда глубже, смотрел куда дальше, чем современность и границы государств. Впрочем, полагаю, что он рассуждал не умозрительно и теоретически — в нем болезненно и бурно гуманитарий боролся с технарем. Гуманитарием он был по рождению, а технарем решил стать намеренно, окончив кораблестроительный факультет Петербургского политехнического института. Для чего? Чтобы встретится с механизмами и цифрами лицом к лицу, чтобы испытать математику на прочность, доказав тем самым (и прежде всего лично себе), что точность и расчет без души, воображения и чувств — это лишь дурная бесконечность пустого механического передвижения от точки к точке.
«Каждое утро, с шестиколесной точностью, в один и тот же час и в одну и ту же минуту мы, миллионы, встаем как один. В один и тот же час, единомиллионно, начинаем работу — единомиллионно кончаем», — писал он в своем главном романе «Мы». Обычно как бывает: если ты не любишь Россию, то стремишься ко всему европейскому; это несколько утрированно и общо, но все же. Но не таков Замятин, не в этом его предназначение как художника. То, что любит он или не любит — это все на бытовом лишь уровне: сегодня человеку хочется дождя, завтра — солнца — не в этом дело. Нарочитая математика, постановка в рамки, запихивание людей в механизмы (капитализма или коммунизма — все равно), постоянное утромбовывание, муштрование, операции на душе — вот о чем кричал Замятин. И, надо признать, не докричался. Лайки, гифки, контр альт делиты, Ф 2 и Ф 8, яндекс-диск какой-нибудь — чем, скажите мне, это не замятинское Единое Государство? Чем не его персонажи — Д-503, О-90, I-330? У него в «Мы» строили «Интеграл», а у нас построили Интернет. Замятин писал антиутопию, стараясь уберечь мир от цифрового космополитизма, а получился самый настоящий реализм…
Но он хотя бы попытался. Простой лебедянский пацан Женька Замятин попытался создать нечто такое, что впоследствии породило на свет вслед за его «Мы» такие шедевры, как «1984» Оруэла, «О дивный новый мир» Хаксли и «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери. Даже если «Мы» просто помог появиться этим произведениям — это уже очень много. И пусть гифки, пусть лайки, зато литература как таковая обогатилась, пусть лишь сама для себя.
Но вернемся немного назад, в 1913 год, когда Замятин написал повесть «Уездное» — мое любимое у него произведение. Он написал эту повесть аккурат к трехсотлетию с года основания Лебедяни (специально или нет — неизвестно), тогда еще уездного городка Тамбовской губернии. Повесть «Уездное» — о Лебедяни: о дикой, ленивой, пьющей, но в то же время живописной, открытой сердцем и легкой на подъем. Я родился и вырос в этом провинциальном городке, поэтому каждая строчка «Уездного» вызывала у меня легкую понимающе-грустную улыбку: за сто лет в Лебедяни ничего не поменялось, разве что кони из плоти и крови превратились в стальных коней и вывесок «Трактиръ» уже не встретить. А люди, персонажи — они фатально все те же.
Вот вы гуляете по современной Лебедяни, а навстречу сама Чеботариха, реально выскочившая со страниц «Уездного», или кучер Урванка, что в большом почете у Чеботарихи — «кучерявый, силища, черт, и черный весь — цыган он был, что ли»; а вот и кухарка Анисья толстомордая, которую прогнала Чеботариха со двора. И за что? Чтобы к «Урванке не подкатывалась». Стоит вспомнить один анекдотец, который, говорят, в Лебедяни и родился, а если это только слухи, то все равно к сути дела близкие. Баба пошла в магазин за хлебом, смотрит — в луже мужик пьяный валяется. Баба приподняла его голову, оттерла лицо от грязи, посмотрела — вроде ничего, пойдет. Ну, конечно, и в штаны мельком заглянула… Тоже, в общем, ничего. «Сейчас пойду, хлеба куплю, а на обратном пути взвалю его на себя, да и жить к себе потащу», — думает баба. Купила хлеба, выходит, а мужика-то в луже нет! Она как швырнет авоську с буханкой оземь да как заорет: «Что ж я, черт, хлеба никогда не видела?!»
В дневниках Замятин писал о Лебедяни и о себе в ней просто и трепетно: «Вы увидите очень одинокого, без сверстников, ребенка на диване, животом вниз, над книгой — или под роялью, а на рояле мать играет Шопена — и уездное — окна с геранями, посреди улицы поросенок привязан к колышку и трепыхаются куры в пыли. Если хотите географии — вот она: Лебедянь, самая разрусская-тамбовская, о которой писали Толстой и Тургенев…» Главный герой «Уездного» — пьяница и лентяй Анфим Барыба, которых и сегодня в Лебедяни полно. Он прилепится то к одной бабе, то к другой. И все ему с рук сходит, и все ему нипочем. Но сколько любви, очарования и тоски в языке Замятина, когда он пишет о родном своем крае и бесшабашных его обитателях! Это совсем не тот язык, которым написан «Мы» или повесть «Островитяне», это осторожный, хрустальный язык, где каждое слово буквально звенит, трепещет.
Где же настоящий Замятин? Какой из его языков наиболее аутентичен? Я думаю, любой и всякий из них в равной степени. Замятин просто намного крупнее всего, что связано с теми или иными приемами и формами, равно как и с политическими воззрениями — таким вижу его и чувствую лично я. Любой конформизм был для него одинаково неприемлем и нетерпим, о чем он вполне открыто для того времени говорит в своем письме Сталину незадолго до эмиграции: «Я ни в какой мере не хочу изображать из себя оскорбленную невинность. Я знаю, что в первые 3−4 года после революции среди прочего, написанного мною, были вещи, которые могли дать повод для нападок. Я знаю, что у меня есть очень неудобная привычка говорить не то, что в данный момент выгодно, а то, что мне кажется правдой. В частности, я никогда не скрывал своего отношения к литературному раболепству, прислуживанию и перекрашиванию: я считал — и продолжаю считать, — что это одинаково унижает как писателя, так и революцию. В свое время именно этот вопрос, в резкой и обидной для многих форме поставленный в одной из моих статей (журн. „Дом искусств“, No1,1920), был сигналом для начала газетно-журнальной кампании по моему адресу».
Писатель Евгений Замятин оказался в числе тех немногих счастливчиков, кого отпустили в эмиграцию без особенных проблем и проволочек. И на том спасибо от благодарных потомков.
Иллюстрация РИА Новости/ З. Давыдов
- В Зауралье под следствие попал глава завода из‑за долгов перед сотрудниками
- Суд вынес приговор исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» и их подельникам
- Бангладеш просит США разрешить закупать у РФ нефть, а Румыния перезапустить НПЗ
- Конфликт интересов с ценой в 8 млн: экс‑главу поселения в ХМАО поймали на подписании контрактов с бывшим мужем
- Зеленский сообщил, от кого Украина готова принять гарантии безопасности
- ОМОН в торговом центре: визит силовиков привел к закрытию ресторанов в Екатеринбурге
- Пассажир международного рейса скончался на Урале
- В Иране подтвердили, что новый верховный лидер страны был ранен
- Избивали час, а потом принесли умирающего матери: под Екатеринбургом ищут отморозков, убивших молодого парня
- Российский суд не выдал Румынии самого разыскиваемого преступника страны