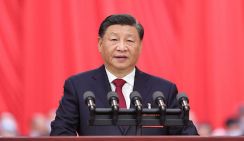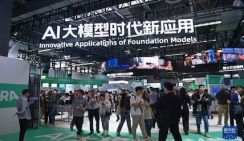«При нехватке сотрудников в здравоохранении и образовании сокращение штатов — тупик...»
Николай Коломейцев
«При нехватке сотрудников в здравоохранении и образовании сокращение штатов — тупик...»
Николай Коломейцев
- Защищает от рака: Мясников назвал самую полезную рыбу
- Озвучен самый простой способ улучшить сон
- Сын первого главы ДНР получил сильные ожоги при взрыве в зоне спецоперации
- Минобороны сообщило о массированном ударе по энергетике и ВПК Украины
- Столкновение с детским автобусом на Калужском шоссе: минивэн с мигрантами врезался в стоящую машину
- В Тамбовской области задержан иностранец, бежавший в РФ от армии и призывавший к терроризму
- МВД предупредило о новой схеме мошенников с «секретными чатами»
- В Госдуме предрекли переход к четырехдневке
России следует прислушаться к себе провинциальной
Андрей Рудалёв отвечает Захару Прилепину
Захар Прилепин задал вопрос: «В XIX веке рассадником либерализма и прочего нигилизма был Петербург. В петербургских салонах обсуждали — на тот, прежний манер — рашку и ватников. Москва была куда консервативней. Москва ещё из себя рашку не вытравила, и ватник, чтоб хотя бы добежать до нужника, изредка надевала». Далее: «прошло 100−150 лет и ситуация изменилась с точностью наоборот». И теперь «все эти московские Марши мира — их в Питере представить нельзя. Ну, разве что из пятидесяти мелко покрошенных человек. …Понятно, что 150 лет назад столица была в Петербурге, а теперь она в Москве, в столицу съехалась всякая шваль отовсюду. Всё так, всё так. Но есть ведь и какие-то другие причины, да?»
Наверное, все дело в провинциальности, которая укореняет. Столичная инерция втягивает в моду за «прогрессивными» побрякушками и обманками, выстраивает фантомные образы. Провинциальное — это вообще очень важная доминанта отечественной культуры, хотя ее часто сейчас и воспринимают с отрицательной коннотацией, как синоним застоя, косного, не способности к прогрессу.
Но важно то, что провинциальность оставляет возможность быть самим собой. В ней есть опасность односторонности, самозамкнутости, когда провинциальность переходит в провинциализм. Но все это, как правило, преодолевается русской культурой, которая гармонично соединяет иное и свое в особый сплав. Провинциализм — это как раз стремление к локализации, слабая восприимчивость ко всему новому. Да и вообще, провинциализм практически не мыслит в категориях будущего времени, а только в прошедшем.
Провинциализм — это консерватизм, ставший законсервированной догмой. Провинциальность — это деятельный консерватизм с постоянным запросом на обновление.
Западничество и либерализм в России — это как раз проявление односторонности, производное от того же провинциализма. Страстное желание быть не тем, чем являешься, стать иным. Упрощать здесь нельзя и не стоит говорить о нарочитом предательстве интересов страны и рисовать образ «пятой колонны». Здесь другое. Следствие невозможности восприятия русского культурного синтеза, когда ухватываются только за одну его часть — восприимчивость к иному, которое становится фактом отечественной культуры. Как православная книжность после принятия христианства на Руси и с переводом на старославянский стала восприниматься фактом собственной культуры. Отсюда Русь и является Третьим Римом, то есть наследницей по прямой. В этой формуле старца Филофея — не только «имперские амбиций», но живое переживание родства, культурной связи. Невозможность понимания этого феномена производит тезис о несамостоятельности русской культуры, ее подражательности и вторичности, а значит, ее увечности, неполноценности.
Также ущербна и другая односторонность, когда русская культура воспринимается в качестве вещи в себе, самодостаточной и сохраняемой через изоляционизм. Подобная старообрядческая формула также сквозит неполнотой и порчей сути отечественного культурного кода, как и либеральная жажда скидывания «ветхих» риз своего и попытка совершения чудесной метаморфозы в иное.
Соборный, симфонический дух русской культуры — это, безусловно, следствие ее Православия. Это показал сам факт Крещения Руси, который произвел метаморфозу, показал способность цивилизации к преображению. Произошло не просто обращение, своеобразная духовно-культурная прививка, а особое синергийное, встречное действие. Русь не становилась иной, она преображалась, практически моментально превратившись в одно из самых просвещенных государств Европы.
Если хотите, то особенность русской культуры состоит в соединении, казалось бы, несоединимых вещей. В этом состоит ее чудо. Это свойство отлично выразил Александр Сергеевич Пушкин. Чтобы показать гениальность Пушкина достаточно одной его хрестоматийной строчки: «Мороз и солнце; день чудесный!» Соединение несоединимого производит чудо. Чудо нового дня, новой жизни. Через это чудо в стихотворении преодолевается замкнутость пространство, и весь мир наполняется светом. Гармония чуда в простом, привычном, которая примиряет противоречия и поднимает над обыденной реальность. Чудо различается по всему Божьему миру и человеческому существу. Только гений мог вывести такую очевидную и в тоже время сущностную формулу отечественного культурного кода. Гениальность стремится к синтезу, к созиданию мира и миров, к преодолению ограниченности и односторонности, к созданию из хаоса противоположностей нового космоса.
Нет необходимости противопоставления национального, народного начала и, например, европейского. Россия сильна не тогда, когда происходит ее насильственная европеизация, стрижка бород и обрезание всех национальных корней, а когда происходит ее естественное раскрытие иному, новому. В качестве такового можно привести рассвет, вызванный так называемым вторым южнославянским влиянием. Время Сергия Радонежского, его учеников. Или рассвет русской литературы в 19 веке.
С другой стороны, к примеру, Петр Чаадаев воспринимал национальное, то есть провинциальное, в качестве главной помехи в общем деле христианской цивилизации по построению Царствия Божьего на земле. Личное, национальное вторично по отношению к наднациональному, безличному. Чаадаев преодолевает предрассудки национального: черты «истории нашей юности» от «дикого варварства», «грубого суеверия» и до «иноземного владычества». В прошлом нет «ни одного приковывающего к себе воспоминания». Жизнь в «плоском застое» в «ограниченном настоящем» без прошлого и будущего. В этом преодолении он впадает в сходную старообрядчеству односторонность. Но если те бежали от наднационального Православия в далекие скиты или даже в огонь, то Чаадаев — в Европу. На самом деле все это — однотипные пути, только с разным вектором, вызванные непониманием и невозможностью прочувствования отечественного культурного кода.
И крайние славянофилы, и тот же Чаадаев, рассуждали, конечно же, с позиций любви по отношению к стране, желая ей только лучшего и прекрасного. Чего не скажешь о современных просвещенцах, которые мыслят в логике Базарова о необходимости скорейшей расчистки плацдарма любыми методами, а там будь что будет. Эта любовь того же Чаадаева не всегда пыталась понять и разобраться, а часто во власти эмоционального порыва силилась подменить суть России. Из лучших, конечно же, побуждений.
Еще Николай Данилевский в своем труде «Россия и Европа» писал, что великие перевороты в русской истории, процесс перерождения начинается в народном сознании. Это именно то, что сейчас можно назвать провинциальным сознанием. В нем «происходит тот же процесс внутреннего перерождения, который совершается в душе отдельного человека, переходящего из одного нравственного состояния в другое» — пишет Данилевский. То же Крещение Руси, когда воля святого князя Владимира получает мгновенной отклик всего народа. Сходным образом и сейчас абсолютное одобрение в обществе получило присоединение Крыма к России, которое разочаровало многих прогрессивных деятелей, они вновь стали изрекать, что все проблемы не в Путине, а народе. Князь Владимир оказался выразителем, медиатором народного духа. Так и присоединение Крыма совпало с ожиданиями, чаяниями провинциального коренного сознания, жаждущего обновления.
Все это не свидетельства раболепного подчинения власти, воли вышестоящего начальника. Народное, провинциальное сознание в России — основной субъект и делатель истории. Так, в качестве реализации народной воли Данилевский приводит в пример подвиг Минина и Пожарского. Сходным образом и сейчас современные Минины и Пожарские совершают свой подвиг в Новороссии. Реализацией народной воли явилась и победа в Отечественной войне 1812 года и победа в Великой войне ХХ века. С другой стороны, тот же Данилевский пишет о том, что есть масса примеров, когда величайшие усилия власти ни к чему не приводили, если цели «были противны народному убеждению», когда действовала логика столичного салона и волюнтаристского произвола.
Все это, по мысли отечественного мыслителя, связано с тем, что в русском человеке присутствует огромный перевес общенародного над личным, индивидуальным. Отечественное, провинциальное — это всегда в первую очередь «мы», а потом уже «я», которое воспринимает себя листком на народном древе, и отпадение от него чревато большой личной драмой. Кстати, попытка приобщения к абстрактному общечеловеческому или европейскому общему дому, некоему цивилизованному миру — это также следствие вторичности индивидуального начала. Как уже сказали, тот же Чаадаев старался преодолеть предрассудки национального, личного. Но вот вся проблема, когда русское «я» становится иным, оно уже перестает быть самим собой. «Русский, перестав быть русским, обращается в ничто — в негодную тряпку» — заключает Данилевский, характеризуя своеобразный столичный вирус, выветривающий внутреннюю, провинциальную суть. Все дело в приоритете общенародного. Это не стремление прибиться к той или иной стае, к центру силы, а именно к русскому, провинциальному началу, без которого человек становится подменным, ненастоящим. Попытка искусственной прививки иного, отторгаемого народным сознанием, здесь производит чудовищные мутации, тот же нигилизм, догматический либерализм. Об этих мутациях и пишет Прилепин, говоря о столичных салонах.
Эти прививки производят и застой в обществе. Причины застоя философ Алексей Хомяков видел в том, что «мы отложили работу о совершенствовании всего своего, ибо в нас внушали любовь и уважение только к чужому». Все это писал не карикатурный русопят, Хомяков отдавал дань западной культуре, был ее отличным знатоком, с любовью относился к Англии.
Очень важно уйти от подмен. Когда исконная восприимчивость к чужому и творческое его освоение трансформируется в диктат чужого с попыткой замены им своей сути. Когда провинциальная, народная, коренная основа вырождается до провинциализма, до категорического отторжения всего иного, вплоть до создания образа врага. Русская культура, русские гении — всегда симфонические, все здесь рождается из сложного сплава и односторонность противопоказана. «Мороз и солнце; день чудесный!» — как писал гений.
Фото ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян.
- На скользкой трассе в Пермском крае автобус столкнулся с УАЗом, есть пострадавшие
- Жених Лерчек рассказал, как проходит 24-часовая химиотерапия блогерши
- Житель Башкирии едва не зарезал племянника за тунеядство
- Минобороны сообщило о массированном ударе по энергетике и ВПК Украины
- МВД предупредило о новой схеме мошенников с «секретными чатами»
- В Новосибирске судят завотделением роддома: ошибка врача привела к смерти роженицы
- Столкновение с детским автобусом на Калужском шоссе: минивэн с мигрантами врезался в стоящую машину
- Полуголый мужчина измазал кровью подъезд в Тюмени
- В Тамбовской области задержан иностранец, бежавший в РФ от армии и призывавший к терроризму
- Путин поздравил 94-летнюю вдову Ельцина с днём рождения