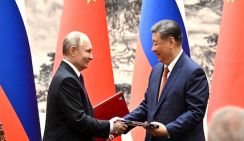«Кителя некоторых наших генералов выглядят будто они вчера отбирали у Гитлера Берлин…»
Сергей Ищенко
«Кителя некоторых наших генералов выглядят будто они вчера отбирали у Гитлера Берлин…»
Сергей Ищенко
- Мать генерала Попова рассказала о возможных причинах его ареста
- Путин прокомментировал гибель Раиси
- В Германии высмеяли заявление Бербок о Путине
- Журналист Аббас Джума: если Израиль причастен к гибели Раиси – это война
- В Москве педофил надругался над 11-летней девочкой
- СМИ заметили странную деталь в словах Зеленского
Памяти друга
Владимир Алейников вспоминает Леонида Губанова
В сентябре восемьдесят третьего года я, в который уж раз, вновь жил и работал на Украине, в Кривом Роге. Если и было у меня тогда, среди бесчисленных невзгод лихолетья, слишком обтекаемо именуемого нынче безвременьем, спасительное пристанище — так это родительский дом.
Пришло письмо из Москвы, от жены. Цепенея, с подкатившимся к горлу сердцем, перечитывал я дрожащие строки: «Умер твой друг Лёня Губанов…»
За окнами толпились деревья окрестных садов. По комнатам, вздох за вздохом, шелестел отдающий полынной горечью, искони пронизывающей естество древнего и вольнолюбивого моего края, степной ветер.
В этом доме бывал Губанов. Здесь его любили и помнили, привечали и понимали. Здесь звучали его молодые стихи.
И вот теперь человека не было. Что-то родное, привычное, огромное, важное — такое, чего и не выразить сразу, такое, с чем связано слишком уж многое в жизни, в судьбе, связаны годы, молодые и более зрелые, связаны встречи, события, равных которым нет, нитью незримою связаны души и биографии, творчество и вдохновение, и становление духа, — всё, чем я жил, чем я жив, личное, вечное, точное, — связано свыше, наверное, — вдруг, почему-то, бессмысленно, слишком жестоко, намеренно, — знать бы мне, а не догадываться: так по чьему же умыслу? — безвозвратно ушло.
Остались в мире — и сызнова, как и когда-то, в молодости, сразу пришли, и вспыхнули, и зароились в сознании, и зазвучали по-новому, гордо, трагично, празднично, волшебно, торжественно, яростно, обречённо, светло и властно, — только губановские стихи.
Двадцать лет неустанного горения, взлётов, срывов, упрямства, тоски, возрастающей гордости, за которой всегда неизменно вставала верность своим идеалам, отчаяния, за которым неминуемо следовало вдохновение и прозрение, воспарение к небесам, двадцать лет прорывов куда-то в неведомое, тех открытий, в которых — суть, тех наитий, в которых — путь, двадцать лет — на звук и на свет, пусть и вовсе не прямо, кругами, но зато уж — слово зовёт — с твёрдой почвой всегда под ногами — сквозь стихии — вперёд и вперёд, потому что знал он, куда в гуще мрака ведёт звезда. Двадцать лет отстаивания собственных, личных, таких уж, какие были, но — его и только его, а не чьих-нибудь там, оправданных всей судьбою творческих принципов, личной, собственной, кровной, своей, не похожей на другие, жизненной позиции.
— Под восторженной землёй пусть горит моё окошко…
С Губановым мы подружились — мгновенно и накрепко — в самом начале неповторимой осени шестьдесят четвёртого. Среди молодых московских поэтов не было тогда, пожалуй, человека известнее, самобытнее, ярче. Не было дотоле, покуда на столичном горизонте не появились и прочие звёзды минувших лет. Но я говорю — о заре. А Губанов на этой заре — был звездою, и всё этим сказано. В предрассветном небе — сиял. Я приехал в Москву из провинции — и об этом сказали мне сразу же завсегдатаи всяких, в ту пору популярных, бесчисленных, шумных поэтических сборищ. Слава его — особенная, подчёркнуто неофициальная, но зато прочная, — зародилась уже в те дни. Он много и с превеликой охотой, трезво понимая, что это способствует его популярности, мгновенно возникшей и стремительно распространившейся моде на него, читал свои стихи — везде, где только предоставлялась такая возможность, и совершенно всем, без особого разбора, кто выражал хоть малейшее желание слушать его, из любопытства ли, по причине ли действительно серьёзной любви к поэзии, или же следуя правилам, общим для многих в столице, хорошего тона, всем, кто настроен был слушать его. Авторское чтение его воспроизвести невозможно, это был поразительный сплав какого-то дремучего, древнего, вовсе не ведической, не просветлённой, а первобытной, смутной, туманной, лесной, бесконечно глухой стариной отдающего плача и совершенно детского, беспомощного, наивного, доверчивого, смущённого лепетания, возрастающего, от низов до верхов, на высоких тонах обречённо дрожащего, боязливого, но и бесстрашного крика и едва различимого, тихого, робкого шёпота, вдруг выплёскивающейся откуда-то изнутри, из души, из биения сердца, из сплетенья набрякших, пульсирующих, кровью творческой хлещущих жил, возникающей столь нежданно, по чутью, по наитью, исподволь, и свободно, привольно, уверенно разливающейся вокруг, очень русской и очень чистой, с колокольцами, с перезвонами, с перебором струнным, с раскатами, в никуда и куда-то, в невидаль, развивающейся, разрастающейся, разлетающейся, вдоль осени и на все на четыре стороны, в трансе, в ритме, в порыве, мелодии и немедленно завораживающего всех и вся, с монотонным таяньем, с недосказанностью и с тайною, с неким смыслом, открытым походя, позабытым тут же и сразу же воскрешаемым, чтобы помнился, чтобы длился, речитатива. Впечатление бывало оглушительным. Сравнивать было не с чем. Слушатели буквально обалдевали. И круг приверженцев губановских в очередной раз расширялся.
В годы нашей молодости наши стихи на удивление хорошо воспринимались людьми с голоса. Почему было именно так? Что за звук им хотелось услышать? Что за свет им хотелось — за звуком — в беспредельной ночи различить? Видно, время такое было. И такою была — поэзия. Не случайно она звучала — и спасала, и жить помогала. Не случайно она вставала — над страною, сквозь мрак и хмарь. И вставало за ней — вниманье. А за ним — порой — пониманье. Вот что было — всегда за гранью. На Руси — было слово встарь.
Орфичность поэзии Губанова, её естественное, не скованное никакими рамками существование в стихии речи, — открывали счастливую возможность пластичной, многосмысленной, фонетически насыщенной структуре его стихов, их сочной, буйной плоти — и одновременно их одухотворённости, окрылённости, — восприниматься и усваиваться окружающими свободно, без натуги; эти весьма сложные тексты, которые читаешь с листа с достаточным напряжением, становились как бы органической частью природы, мира, ибо, сами полные движения, поневоле участвовали в движении жизни.
Несколько позже начали своё шествие по всей стране и списки губановских стихотворений и поэм. Число этих самиздатовских машинописных сборников не поддаётся никакому учёту. Многовековая российская традиция — оказалась на редкость живучей. Отечественные, весьма образованные и очень разборчивые, читатели — давно приняли пришедшегося им по сердцу поэта. Да, впрочем, и не только они. За рубежом и Губановым, и созданным им вместе со мной содружеством СМОГ, а соответственно — и творчеством каждого из нас, давно уже всерьёз интересуются и издатели, и исследователи. Стихи Губанова — живут, у них своя, никому уже не подвластная, жизнь. И надо лишь радоваться, если где-нибудь они оказываются зафиксированными на бумаге добротным, печатным, гуттенберговским способом. Всем ясно, что русская культура — едина. Потребность в настоящей поэзии ощутима не только в России. На русском языке читают в разных странах. И, кстати говоря, почитают достойных авторов.
Безвременье вызвало расцвет самиздата. Достаточно было напечатать рукопись на машинке в трёх экземплярах и отдать её знакомым, чтобы в кратчайшие сроки число машинописных копий возросло в геометрической прогрессии. Все пишущие люди нашего круга к этому привыкли. Такой способ распространения текстов представлялся и закономерным, и разумным. Надежд на издание не было вовсе. Поэты и прозаики много работали, духовно росли, как и их читатели; сам процесс такого взаимодействия, такого общения — был плодотворным, необходимым. Только сейчас, поначалу едва забрезжив, что-то, вроде бы, ещё смутно, а всё-таки высветилось с нормальными, не искорёженными редакторами и цензурой советских времён, изданиями на родине. Изданы пока что лишь частицы из написанного в пределах бывшего отечества за несколько десятков лет. Пресловутая подводная часть айсберга ещё не видна.
…Сентябрьским, полным шелеста листвы, утром шестьдесят четвёртого, в комнатке на Автозаводской, где я временно обитал, Губанов впервые прочитал посвящённое мне своё провидческое стихотворение:
— Здравствуй, осень, — нотный грот, жёлтый дом моей печали! Умер я — иди свечами. Здравствуй, осень, новый гроб. Если гвозди есть у баб, пусть забьют, авось осилят. Перестать ронять губам то, что в вербах износили. Этот вечер мне не брат, если даже в дом не принял. Этот вечер мне не брать за узду седого ливня. Переставшие пленять перестраивают горе… Дайте синего коня на оранжевое поле! Дайте небо головы в изразцовые коленца. Дайте капельку повыть молодой осине сердца! Умер я. Сентябрь мой, ты возьми меня в обложку. Под восторженной землёй пусть горит моё окошко.
Уже тогда, восемнадцати лет отроду, он точно предсказал месяц своей смерти — я бы выразился резче: гибели. С абсолютной уверенностью говорил он, что проживёт тридцать семь лет. Так всё и вышло.
Когда сейчас читаешь его более поздние по времени стихи и видишь, как эта убеждённость, это осознание рока, всё крепнут, обрастают подробностями, когда ощущаешь, что к смерти он был постоянно готов, что с трезвейшим пониманием неминуемого уложился в жёсткие рамки творческого двадцатилетия, что выложился весь, без остатка, что отдал поэзии все силы, всю душу, всю кровь, всю свою жизнь, — становится не по себе.
Это не мистика, а дарованное поэту свыше умение видеть наперёд, — лишнее доказательство правоты и весомости поэтического слова, провидческого дара. Таких поэтов, как он, — такого ранга, дыхания, лирического напряжения, эпического размаха, — единицы.
Суть здесь — в единстве, цельности всего губановского творчества. Ибо поэт всю жизнь писал единую, очень большую, предельно искреннюю, исповедальную, не имеющую аналогов книгу. Ибо страсти вокруг наследия Губанова не утихают. Ибо, давным-давно придя к своему читателю и без наличия печатных изданий, он ещё будет, уверяю вас, грамотно издан на родине, и неизмеримо возрастёт его известность, как и только увеличится его, Губанова, воздействие, влияние на современную поэзию.
Губанов и СМОГ — понятия неразделимые. Морозным январским вечером шестьдесят пятого, в час важнейшей, исторической, как он выразился, встречи, одновременно и с налётом таинственности и с приливом откровенности, Лёня мне первому рассказал о том, что для осуществления нашей общей с ним идеи — сплотить молодых поэтов, прозаиков, художников, создать творческое содружество, — он нашёл точное слово. Слово это было — СМОГ. Казалось, это было как нельзя более ко времени. В Москве собрались тогда многообещающие силы. Нужны были — выход, действия. Все стремились проявиться в должном масштабе, утвердиться, окрепнуть. Ещё длился несколько затянувшийся раскат последней волны хрущёвской оттепели. Мы все, в достаточной мере, идеалисты, а скорее — просто из-за избытка чаяний, замыслов, ещё не осознавали, что вот-вот всё остановится, замрёт, что уже занимается бредовая заря брежневского безвременья, по-русски говоря — бесчасья, которая принесёт с собой столько горя, трагедий. В отпущенный нам судьбою промежуток времени мы всё-таки успели сказать своё слово. Расплатились за него — искалеченными судьбами, а некоторые и жизнью. Но это — позже. А в ту пору, по нашим представлениям, перед нами открывалось великолепное будущее, причём всё зависело только от нас самих. И СМОГ начал своё существование. Чингисхан знал, что говорил: если ты хочешь, чтобы мысли твои запомнили — не ленись их повторять. Посему — повторяю. Сознательно. Упрямо. Чтобы запомнили. Главное в СМОГе — плодотворное общение творческой молодёжи. Наши постоянные встречи, чтение стихов и прозы, споры, задушевные беседы, открытия — были важны для всех. Приподнятость мыслей и чувств, жажда знаний — вот под какими знаками проходили эти бурные месяцы, покуда СМОГ дышал, действовал, покуда нас окончательно не задавили. Формирование характеров, утверждение авторитетов, умение совершать поступки — вот что происходило тогда. Число соратников, единомышленников — росло с каждым днём. Старшие представители тогдашней неофициальной культуры — сразу же поддержали нас. Что уж говорить о ровесниках! Молодёжь, ищущая, энергичная, передовая, — считала нас своими. Так получилось, что именно мы стали выразителями её мыслей и настроений. Нас — ждали. И мы — встречались с людьми. И — читали стихи. Особенно мы с Губановым. Выкладывались всегда полностью. То есть — работали на совесть, — и вдохновенно, и с трезвым пониманием всей важности событий. Но жертвенный наш порыв — был жестоко подавлен. Круг друзей — разомкнулся. Пришло — время долгих бед…
Леонид Губанов родился в июле сорок шестого года. Коренастый, ладно сбитый, подвижный, он казался живым воплощением клокочущей в нём энергии. Когда Губанов волновался или читал стихи, с лица его спадала обычная несколько тяжеловатая статичность, как будто он разом срывал маску. Серо-голубые глаза его распахивались доверчиво и широко, излучая таинственный, ранимый, ясный свет. Позже под набрякшими веками поселились печаль, обида, недоумение, затравленность, ещё позднее — скорбь, твёрдое спокойствие, готовность ко всему.
Обаяние Губанова было чрезвычайно велико. Он мог надерзить, набузить, напроказить, но настолько искренним бывало раскаяние, что и прощение следовало незамедлительно, и недоразумение забывалось.
Он маялся один. Кругами колесил по Москве, по всем её кольцам — бульварным, Садовым, — он был окольцован столицей, закольцован, как певчая птица, вечно — в кольце историй, событий, драм или бед.
Наития, вдохновения — ждал всегда. Когда «накатывало» — исчезал, уединялся, — и появлялся у друзей со свежими вещами, читал их, чутко прислушиваясь к суждениям о новых своих стихах.
В пору СМОГа, которая для нас обоих началась гораздо раньше, нежели официально принято считать, и закончилась гораздо позже, он обычно читал всё новое прежде всего мне, как и я ему, — таков был уговор, правила игры, хорошее соревнование, если хотите. Доверие было — взаимным.
Губанова любили женщины — неистово, пылко, самоотверженно. Его романы возникали стремительно и вдруг прерывались, чтобы уступить место новым. Нежность к Лёнечке, как все его называли, в покинутых женских сердцах не угасала.
Губанова берегли, как умели, друзья. Будучи вовсе не ангелом по характеру, он вечно попадал в переплёты, с ним всё время что-нибудь да происходило — ужасное, или нелепое, или комичное, или такое, чему и определения-то сразу не подберёшь. Он был суеверен. И не просто суеверен, а гипертрофированно, сверх всякой меры, без всякого удержу, везде и всегда, в любую секунду, где бы ни находился, что бы ни делал, — то пугался, то радовался, то терялся в догадках: да что же это такое? — а то и, невероятно мнительный, окружённый целым роем своих, особенных, примет, загадываний, знаков, символов, как будто пчелиным роем, так и виделся — в центре этого вихря, роения, сам волчком закручивающийся в центре своих наваждений, предчувствий, своих, очень личных, условностей, за которыми видел, наверное, незаметную для других, очень странную, зазеркальную, несомненную для него, фантастическую, но и будничную, непрерывную, пёструю, донимающую и тревожащую, но всегда, тем не менее, — зримую, ощутимую ежесекундно, с ним давно уже, видно, сросшуюся, им давно уже, видно, принятую, без особых раздумий, явь. Он был — фаталист. Сознательно бросал себя в сложные ситуации, чтобы пройти ещё одно испытание на прочность. Загадывая нечто про себя, вдруг, сорвавшись с места, с тротуара, бросался наперерез мчавшимся по шоссе машинам; держась за прутья балкона, повисал на руках, на высоте седьмого этажа, а то и повыше; мог, очертя голову, ринуться в драку. Придя в себя, становился кроток, задумчив.
Разрушая все байки о якобы необразованности Губанова, свидетельствую, что был он весьма образованным человеком. Он увлечённо, порывами, как-то даже восторженно, весь уходя в своё чтение, осознаваемое им как некое действо, весь, целиком, отдаваясь книгочейской, мальчишеской страсти, позабыв обо всём, обо всех, уединившись, запоем, очень внимательно, вдумчиво, много читал. Знал русскую иконопись и фреску, западную и русскую живопись. Согласно тому, что совпадало с творческими частотами, на которых он работал, со стихами его, со звуком их, — разбирался и в музыке.
Избранный им раз и навсегда независимый, вольнолюбивый образ жизни как нельзя более кстати подходил для необходимых занятий по самообразованию. И он дорожил свободой — для труда, для духовного совершенствования.
Издаваться на Западе отказывался — верил, что издадут и на родине. Но издания зарубежные — разумеется, были — пусть и нерегулярные, хаотичные, клочковатые, без разбора, без всякой системы, по кускам, по частицам, по крохам, как обычно — неведомо где, и какими путями — кто знает, и всегда — некстати, с последствиями, о которых и вспоминать-то нынче слишком уж тяжело, и без всякой радости, праздничности, где-то там, совсем далеко, не увидишь, не прочитаешь, ничего не знаешь порой, где там что-нибудь появилось, — как в другом измерении, словно на планете чужой, в пространстве, в те-то годы, непредставимом, — были, были, — за двадцать-то лет, со времён смогистских ещё, на чужбине, — были издания — без его, разумеется, ведома, точно так же, как и у прочих, никогда не бросавших родину, выживавших, как уж умели, на родной своей почве, спасающихся только творчеством, только горением, верных речи, верных призванию, сквозь невзгоды к свету стремившихся, поредевших его друзей.
Поразителен провидческий дар Губанова. Примеров его точнейшего угадывания грядущего — множество. Очевидцев, свидетелей — вдосталь.
Губанов был прирождённым импровизатором. Иногда — таким, каков был импровизатор в пушкинских «Египетских ночах».
Импровизировал Лёня и мелодии, на собственные стихи. Личность поэта отразилась и в выразительных рисунках карандашом и тушью, и в симпатичных, отчасти сказочных, с элементами наива и ясновиденья, лёгких, чистых по цвету, акварелях, которые никогда не спутаешь с другими.
Самородок? Да пусть и так! Нас обоих, в былые годы, называли так, самородками, — видно, слова другого не было, а вот это — кстати пришлось. Дворовый мальчишка? Уличный заводила? Вечный какой-то подросток — в жизни своей и стихах? Пусть и так. Всё его — при нём. А то, что был он талант стихийный, глубоко национальный, русский дух в нём был, свет особый, — невозможно никак оспорить. Слишком рано, на грани отрочества и едва начинавшейся юности, в небывало короткие сроки, состоялся он как поэт. И ведь надо же! — сразу же, вовремя, — он сумел заявить о себе, заявить, да так, что столица — изумилась и тихо ахнула: ну и ну! — самородок! — гений! — это он, конечно же, он! — здравствуй, здравствуй! — иди же к нам — как давно мы тебя ожидали! — и теперь мы тебя дождались! — вот и ты, наконец, пришёл! — как мы счастливы, как мы рады!.. И он, взбудораженный, юный, — ринулся — весь — навстречу публике, — обожателям, поклонникам, почитателям, всем, кто погоду делали, кто создавали мнение, — ринулся — в гущу самую, в бездну, в богему, в сутолоку, — к славе своей, к драме своей, к гибели ранней своей… Голос его огрубился, несколько поохрип в хаосе и бессмыслице всех, раскрывшихся картами кем-то умело разложенного, внешне — вроде бредового, а на поверку — трезвого, пёстрого и заманчивого, мистического пасьянса. Был — российским Рембо. Стал — иным. Что же делать! Возраст. Годы. Невзгоды. Беды. Замкнутый круг. Но голос его — звучал. По тону, когда-то взятому, по свету, в нём сохранённому, его различали, вслушиваясь в гул неровный бесчасья.
Был он поэтом — изумительного дарования.
Жива поэзия — и в ней Губанов жив. Такой, каков уж есть. Чей дар — от Бога. Жива поэзия — и света в сентябре достаточно, чтоб вспомнить о былом и ясно вдруг увидеть: это — живо. Живёт — и всё тут. Существует. Есть. Звучит высокой музыкой былого.
- СМИ: взрывы прогремели под Полтавой
- СМИ заметили странную деталь в словах Зеленского
- Актрису Светлану Светличную экстренно госпитализировали в одну из клиник Москвы
- «Незаконно»: французский политик призвал Запад прекратить поддержку Украины
- В Москве педофил надругался над 11-летней девочкой
- В Германии высмеяли заявление Бербок о Путине
- Журналист Аббас Джума: если Израиль причастен к гибели Раиси — это война
- В Казани таксист набросился с ножом на пассажиров
- Мать генерала Попова рассказала о возможных причинах его ареста
- Путин прокомментировал гибель Раиси