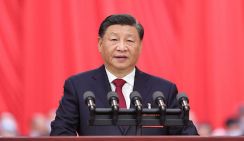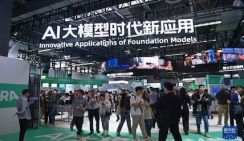«До 2030 года убудет до трети нашего авиапарка. Выход — это сокращение авиаперевозок…»
Андрей Патраков
«До 2030 года убудет до трети нашего авиапарка. Выход — это сокращение авиаперевозок…»
Андрей Патраков
- Ким Чен Ын обратился к Си Цзиньпину
- Врач раскрыл, что нужно съесть утром для восстановления поджелудочной и печени
- Психолог назвал реальные способы, как распознать ложь в словах человека
- Озвучен неожиданный симптом инсульта
- Назван простой способ улучшить контроль уровня сахара в крови
- Зеленский рассказал, на что готов обменять украинские дроны-перехватчики
- Врач назвал «идеальный вариант завтрака»
- «Уберем легко»: Трамп призвал Эрдогана вместе покончить с «маленьким» Хаменеи
Зверь из бездны
Кирилл Анкудинов обгладывает косточки современных литераторов
Мешок новостей — Майя Кучерская: двоение слога — правила игры — язык Татьяны Устиновой — между Львом Толстым и Лидией Чарской — социокультурная моторика Марка Липовецкого — зига в кармане — мастер диффамаций — посредник-вышибала — рецензируя Андрея Жданова — каннибальский танец на ленинградском теле — о вреде централизма.
А тем временем, опять стали накапливаться литературные новости.
Во-первых, в Адыгейскую республиканскую библиотеку враз пришли три номера журнала «Наш современник», в том числе, седьмой номер с романом Александра Проханова «Человек звезды».
О прохановском романе поговорю в следующий раз.
Во-вторых, объявлен шорт-лист «Букера-2012».
Буду болеть за «Легкую голову» Ольги Славниковой. Хотя Славникова уже получала «Букера». Два раза в одни и те же руки эту премию, кажется, не дают. Также буду болеть против «Крестьянина и тинейджера» Андрея Дмитриева. Недавно Андрей Дмитриев тоже получил (яснополянскую) премию. Но сие ограничением для «Букера» не является.
Из мешка новостей выберу три: все они объединены темой взаимоотношений культуры с темным бессознательным (так сказать, с воем зверя из бездны).
В прошлом обзоре я говорил, что роман Майи Кучерской «Тетя Мотя», опубликованный в седьмом-восьмом номерах журнала «Знамя» — очень серьезная заявка, и неизвестно, оправдается ли она (не оправдалась). А в позапрошлом обзоре я заметил, что «высокая литература» энергетически подпитывается от «массовой культуры», поскольку других источников энергии у неё сейчас нет.
«Тетя Мотя» Майи Кучерской — разительное подтверждение этому.
Оговорюсь: я — не враг «массовой культуры». Многие проявления «массовой культуры» я люблю, а некоторые — обожаю.
Но если мне предлагают играть в покер, я разозлюсь, когда по ходу игры выяснится, что реально мы играем в «подкидного дурака».
Я ничего не имею против «подкидного дурака». Но покер — это покер, а «подкидной дурак» — это «подкидной дурак». Игра в бридж не должна становиться игрой «в мафию», шашкам — негоже плавно переходить в поддавки, а шахматам — в бокс. Когда же правила игры произвольно меняются, и я не могу понять, по каким правилам вынужден играть, тогда я сержусь.
А «массовая литература» отличается от «высокого реализма» только тем, что это игра, ведущаяся по другим правилам.
Например, «массовой литературе» хэппи-энд необходим (таковы правила игры). А для «высокого реализма» хэппи-энд всегда подозрителен.
«Тетя Мотя» Майи Кучерской — игра по каким правилам?
Вот главная героиня романа, молодая корректорша Марина (она же — «тетя Мотя»). Бывшая учительница литературы, дочь шестидесятницы-интеллигентки, сама интеллигентка с безупречной грамотностью. У Марины есть нелюбимый муж Николай, есть маленький сынишка Тема («Теплый»), есть любовник Михаил Львович Ланин («Миш»), к которому «тетя Мотя» очень хочет (но не может) уйти.
Стало быть, мы имеем дело с «Анной Карениной» наших дней.
Майя Кучерская это понимает, неоднократно упоминая толстовский текст (и даже Марина сама сравнивает себя с Карениной).
Правда, центральная коллизия за полтора века изменилась: речь идет не о «мненьях света», не о неукоснительном брачном законе и не о сословных перегородках, а о социокультурных неладах-нестроениях.
«Тетя Мотя» — тонкая-изысканная, а ее муж, сисадмин Коля, — что называется, «из простых». Он запал на культурную девушку, на ее тайны, вздохи и умолчания — после брака ему открылось, что в непонимании нет ничего хорошего. Коля поступает так, как свойственно парню его круга — пытается отвлечься работой и сугубо мужскими хобби (например, кайтингом), пьет, бесится, ревнует, распускает руки. Марине с ним тягостно, невыносимо. Она встречает пятидесятилетнего журналиста Михаила Львовича — красавца, жуира, джентльмена, интеллектуала, путешественника, непревзойденного стилиста. Разгорается страсть…
Тут язык произведения Кучерской начинает подозрительно раздваиваться.
Нет, сам по себе он — отменный, превосходный (большая редкость для наших дней; в упомянутом выше дмитриевском «Крестьянине и тинейджере» адекватного описываемой реальности языка вообще нет).
Но когда Кучерская показывает свадьбу Марины или жизнь старого учителя-краеведа Сергея Петровича Голубева, слог у нее - один (хороший, нормальный). А как только дело доходит до вожделенного Ланина, до лямура, до любовных чуйств Моти-Марины, слог враз становится совсем другим. Нет, этот, новый слог тоже неплохой — эмоциональный, красочный, точный. Но другой.
Судите сами…
«Всю дорогу она глядела на него любя, едва удерживаясь, чтобы не коснуться его сейчас отчего-то обожжённого лица. Но Миш, не отрываясь, смотрел вперед. Черная вязаная шапочка спустилась ему на самые брови, он ехал, сжавшись, как-то вжавшись в сиденье, ссутулившись, и внутренне вздрогнул — она это ясно ощутила — от ее легкого быстрого прикосновения ко лбу. Она не посмела больше. Хотя сонно, сладко, ласково хотелось и дальше трогать эти брови, это мягкое лицо, сбросить, смять шапочку и трогать. Она не трогала, смотрела на слабо освещенную дорогу, слегка мело, город погрузился в белесый сумрак, светлый мрак, в котором беззвучно взрывались ледяные подмаргиванья светофоров, цветные круги, отчего-то казавшиеся ей огромными, зелёные пляшущие стрелки, ритмично вскрикивающий желтый свет. Отовсюду выдвигались елки, огненные елки великанов… Украдкой она снова переводила на него глаза, он ехал все так же, сутуло сжимая руль. Был усталым, несчастным, старым. Почему? Спрашивать было бесполезно. И она просто закрыла глаза — и сейчас же оказалась в море его пресветлой ласки, его ладоней, в раю».
Да это же стилистика Татьяны Устиновой!
Татьяна Устинова — пожалуй, лучшая из нынешних российских детективщиц, и стиль у нее наработанный. Вот только языковым инструментарием Устиновой вряд ли возможно решить вопросы, стоящие перед Кучерской. Между прочим, Татьяна Устинова обожает описывать социокультурные мезальянсы — неизменно венчая их хеппи-эндами. В бестселлерах Устиновой хрупкая журналистка-эстетка и грубый олигарх-мужлан (бывший детдомовец) всенепременно поймут друг друга, и в итоге трепещущая духовность обретет кучу золота как награду за любовь (подобную сюжетную логику превосходно раскрыл Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях).
Татьяна Устинова всегда подгоняет свои финалы под исходную задачу. Рецидивы устиновского слога у Кучерской — симптом того, что Кучерская тоже хочет подогнать свой финал под задачу. Правда, задача тут несколько иная — не гламурно-матримональная, но семейно-религиозная.
Дело в том, что Кучерская — православная писательница, она желает защитить нерушимость брака.
Я долго думал, как Кучерская выберется из приготовленной завязки: с одной стороны, всё — за пылкую любовь Марины к Ланину, с другой стороны, как быть с напоминанием благочестивой подруги Тишки: «Любовь в браке может показаться скучной, плоской, но это только по неведению…»?
Майя Кучерская разрулила дилемму гениально.
Тетя Мотя захотела уйти к Ланину, а тот не согласился (из-за болезни жены). Тогда тетя Мотя поехала вместе с сыном на уикенд в деревню к Сергею Петровичу. По возвращении оказалось, что стихи, которые Ланин слал эсэмесками — вовсе не его, а поэтессы Витковской. Оттого мотина любовь перестала быть пылкой. Тем временем Коля оказался во Вьетнаме, там буддийский гуру — старый Динь — обучил его чуткости к супруге. Сама же тетя Мотя отправилась в Испанию, где в пламенном танце обрела чувство свободы. И вот супруги возвращаются из странствий счастливые и довольные; а тетя Мотя — еще и беременна. От кого? То ли от Коли, то ли от Миши. Неважно. Ведь главное — Счастье Материнства. Еще и на старенького Сергея Петровича шкатулка радостных сюрпризов сваливается — как результат череды невероятных совпадений (читать про это мне было крайне неловко: ведь не в диккенсовские же времена я живу).
Теперь проведем эксперимент…
Представим, что «Анна Каренина» закончилась не так, как она закончилась, а иначе. Допустим, Каренин познакомился с чудесным индийским брамином, и брамин строго наставил Каренина не ревновать жену и вообще помягче относиться к людям, не быть «министерской машиной». Вронский же (как мы знаем, он отправился на Балканскую войну) угодил к туркам в плен, встретил в Стамбуле афонского старца и принял постриг. А Анна Каренина — нет, она не погибла. Анну Каренину в самый последний момент спас, вытащил из-под паровозных колес справедливый мужик Фоканыч. Анна полгода прожила в его избушке, изучая Евангелие — и успокоилась, вернулась к мужу. Теперь счастливые супруги Каренины устраивают благотворительные музыкальные журфиксы — вшестером, вместе с Левиным, Кити, Долли и (образумившимся) Стивой.
Расчудесный финал! И Льва Толстого от церкви не пришлось бы отлучать — при таком-то раскладе.
Только это был бы не Лев Толстой. Это был бы кто-то другой. Это была бы Лидия Чарская.
Я не против Лидии Чарской. На своем месте она необходима — в домашней библиотечке одиннадцатилетней школьницы заветной книжечке Чарской — самое место.
Однако я не против Лидии Чарской — лишь тогда, когда Чарская не вместо Льва Толстого.
Если же литератор искренне желает высказаться «как Лев Толстой», открывает рот — и тут — из его уст (зверем из бездны) выпрыгивает-вещает Лидия Чарская.
Это драматично…
А в десятом номере «Знамени» Марк Липовецкий бранит Захара Прилепина.
Я не считаю Прилепина «священным идолом», коего не положено критиковать; я сам некогда критиковал прилепинскую биографию Леонида Леонова. И прогремевшее «Письмо к товарищу Сталину» вызвало у меня неоднозначную реакцию: я по-человечески понимаю порыв Захара, но я не принимаю многие интенции его текста (это — долгий разговор не для теперешнего раза).
Однако опус Марка Липовецкого — удивительная критика. Липовецкий выступает не против какого-либо конкретного произведения или высказывания Прилепина, и даже не против целостного мировоззрения Прилепина.
Липовецкого не устраивает «политическая моторика Захара Прилепина» (его статья так и называется — «Политическая моторика Захара Прилепина»).
Что еще за «моторика»? С чем ее едят?
Как я понял, Марку Липовецкому претит личность Прилепина, и он старается ее зачернить. Сначала Липовецкий ловит Прилепина на противоречиях. Затем последовательно инкриминирует ему этноцентризм (выраженный в недостаточно позитивном описании инородцев), непочтение к геям, интеллигентам, либералам, женщинам, патриархальные установки, подсознательную фиксацию на насилии, «пацанскую этику» (вот он — повод пришить кривой иглой «пацана» Прилепина к «пацану» Путину). Окончательный вывод: «политическая моторика Прилепина и его героев странным образом обнаруживает черты «ур-фашизма» («ур-фашизм» — концепт, придуманный Умберто Эко).
Смех смехом, а ведь человека обозвали «фашистом» — в стране победившей фашизм. «Концепты Умберто Эко» позабудутся, а ярлык «фашиста» — останется, прилипнет.
Липовецкий (отчасти) инкриминирует Прилепину то, что свойственно любому человеку. Фиксация на насилии — изначально встроена в наше либидо. А если Липовецкий полагает, что сам свободен от (своего) этноцентризма, то он заблуждается. Этно-идентификационнные влечения-отторжения и гендерно-ориентационные влечения-отторжения — автоматические опции всякой человеческой личности.
Значит, мы имеем дело с методологией, позволяющей любого человека поименовать «фашистом»…
…Марк Липовецкий позиционирует себя как литературовед, критик, культуролог, философ. Но лучше всего ему удается искусство диффамации.
Диффамация — особая штука. Диффамация — это не брань. Это — не просто ложь (и даже — не просто клевета). Диффамация — это изощренное уменье внедрить, вплести в нейтральный (и по преимуществу правдивый) нарратив опасную дичь, прикрыв ее подобием доказательности. Типа «мой сосед — бухгалтер, любитель рыбалки, невысокий брюнет и австралийский шпион — у него в шкафу карта Австралии».
Вот я открываю книгу «История русской литературной критики. Советская и постсоветская эпохи» (Москва, «Новое литературное обозрение», 2011).
Книга — объемная, ценная, дающая много интересной информации, отчасти написанная иностранными учеными. К несчастью, в этой книге семидесятые годы и постсоветский период — отданы на откуп Марку Липовецкому.
…Однажды Дмитрий Быков неосторожно объявил себя «разночинцем». Вот как это комментируется в книге (в учебнике!)…
«Автор с равной страстью обрушивается в своих сочинениях на структуралистов, теоретиков постмодернизма, на манипулирующих людским мнением политтехнологов и уцелевших потомков российских дворян — все они представляются ему в равной степени отвратительными кружками, объединенными «заговором посвящённых» (стр. 689).
Перед нами — эталон диффамации: три четверти правды (Быков действительно не жалует политтехнологов, структуралистов и теоретиков постмодернизма, в частности Марка Липовецкого) на одну четверть смехотворного вздора. А сколь яркими смыслами здесь играет скромное словцо «уцелевших»…
Эта глава книги написана в соавторстве с Ильей Кукулиным, от природы лишенным полемического темперамента; почти наверняка поросенка Быкову подложил именно Липовецкий. А как докажешь? Так что частично поросенок достался и Кукулину.
Другой соавтор поступил мудро: в предыдущей главе указано, какой параграф кем писан. Ясно, кого бить канделябром. Конечно же, Марка Липовецкого…
«Однако по статьям Чалмаева и Кожинова видно, что патриотическая критика предлагала в качестве идеального ориентира даже не славянофильскую модель, но яростную ностальгию по домодерным (по Кожинову — „азиатским“, антиевропейским) ценностям — ставящим превыше всего „нутряное“, иррациональное родовое единство, кровь и почву, — тем самым оказываясь ближе к Альфреду Розенбергу, чем у Шевыреву и братьям Аксаковым» (стр. 488). «Но наибольшие похвалы достались Юрию Кузнецову, поэту, представлявшему „языческий“, антихристианский национализм в литературе…» (стр. 489). «Спор о поэзии Юрия Кузнецова, действительно заслуживавшей обсуждения как яркий пример „языческого“, вернее, антихристианского национализма…» (стр. 511).
Этого поросенка я принимаю на свой личный счет: я написал множество разных текстов о Ю. Кузнецове и один текст о В. Кожинове. И вот база моего исследования рушится: теперь мне придется доказывать, что Вадим Кожинов — не Альфред Розенберг, а Юрий Кузнецов — не Алистер Кроули.
Как погляжу, Марк Липовецкий использует обратную логику. Если автор в конце жизни написал три поэмы, восславляющие Христа, для Липовецкого этот автор — антихристианин. Если автор возвеличил победу Советского Союза над фашизмом, по Липовецкому он — фашист с зигой в кармане. Если же автор отметил, что советская победа спасла от всеуничтожения евреев Евразии, ну тогда наш автор — антисемит.
«Моторика» самого Марка Липовецкого напомнила мне нечто знакомое. «Липовецкий с маленькой буквы» — вечный социокультурный тип «посредника-вышибалы» стоящего на дороге живой жизни и сшибающего с встречных мелкую дань под предлогом господствующей идеологии. Позавчера липовецкий служил барским бурмистром и отслеживал «крамолу унутреннюю середь мужиков», вчера он представал ненасытным комиссаром-продотрядовцем или рапповским критиком, радеющим за чистоту марксизма, сегодня наш «посредник-вышибала» отстаивает «постмодернизм, мультикультурализм и толерантность», не удивлюсь, если завтра липовецкие запишутся в русские националисты и станут штрафовать русских деревенских парней за неправильную русскость. Идеология, как верно сказано, не играет тут никакой роли. Главное — посредническая «моторика». И, кстати, эта «моторика» — впрямь домодерная (то есть феодальная). В обществе, где нет бар и крепостных, где все равны перед Законом и Рынком, бурмистр-посредник не нужен, ему не на чем паразитировать.
Захар Прилепин плотно изучал советскую литературу; он не может не помнить: липовецкие двадцатых-тридцатых годов точно так же, по тем же самым лекалам шили фашизм, например, Павлу Васильеву (и много кому еще). Вообще «сталинская эпоха» была домодерной, (государственно) феодальной и потому привольной для липовецких (Прилепин скажет, что Сталин оттеснил липовецких; отвечу: глупых липовецких — оттеснил, а умных — приблизил).
Один ли я после доносительской выходки Липовецкого счастлив, что у нас на дворе не тридцатые, не пятидесятые и даже не семидесятые годы?
Теперешние липовецкие вольны распоряжаться грантами и репутациями, но, по крайней мере, людская свобода и людские жизни — вне зоны их досягаемости. Пущай липовецкие хоть кого обзовут «ур-фашистами-расфашистами» — все это только черные слова, бессильные перейти в (прокурорские) дела.
Да будет так вовеки!
А в сто шестнадцатом номере «Нового литературного обозрения», в статье Петра Дружинина «Годовщина Победы или начало новой войны? (Доклад А.А. Жданова 16 августа 1946 года как символ поворота СССР к биполярному миру)» полностью приведена стенограмма печально знаменитой речи Андрея Жданова — той самой, «про Ахматову и Зощенко».
Это — доступный исторический документ, он печатался в старых советских учебниках. Но, во-первых, старые советские учебники сейчас непросто отыскать, а, во-вторых, речь Жданова в них была изрядно отретуширована. В «НЛО» № 116 перед нами явился «Жданов без ретуши».
Я читал (перечитывал) эту речь с любопытством, притом более интересным для меня было не отношение Жданова к Зощенко и Ахматовой (понятно, что и Зощенко, и Ахматова выпадали из ситуации 1946 года, и потому напрашивались на роль жертв), а общие представления Жданова о культуре.
…"Жданов с маленькой буквы" - еще один вечный социокультурный тип — не такой, как липовецкий, даже противоположный липовецкому (однако противоположен он лишь на внешнем, поверхностном уровне; нередко ждановы образовывают с липовецкими симбиозы).
Разумеется, ждановы — не просто громилы; у них всегда есть «позитивная программа»…
«Приключения обезьяны» тянет нас к звериному, в то время как одна из основных задач советской культуры заключается в том, чтобы ликвидировать зверя в человеке, чтобы развернуть полностью человеческие качества и свести к минимуму то, что является атавизмом или давно прошедшим. Мы ведь знаем, какие люди культивировали возврат к звериному, мы знаем какие люди насаждали звериное и истребляли все человеческое".
Эта идея изложена Ждановым косноязычно, поскольку она — не собственная ждановская идея; ему ее Жданову в голову тогдашний липовецкий вложил. Подтверждением этому — то обстоятельство, что в следующую же секунду Жданов спотыкается и рушится в гомерически смешную образность (оговаривается «по Фрейду» — да так, что враз оказываются отмщенными и бессознательное — «звериное в человеке», и Зощенко).
«Как мы позволяем танцевать на наших глазах дикий каннибальский танец на нашем прекрасном ленинградском теле?».
Марк Липовецкий, кстати, разок аналогично фрейданулся — когда ляпнул, что современной литературе не хватает «Пусси райот» (наверное, для того чтобы танцевать дикий каннибальский танец на чьем-то прекрасном теле).
А вот эта цитата из ждановского доклада меня умилила…
«…то нам, строю новому, который представляет из себя воплощение всего того, что есть лучшего в мире, мы можем, и на деле создаем литературу, которая не может не быть подобна той, которая была в эпоху Ренессанса».
Ах, ты моя заинька! Ах, ты моя ласточка! Да, ты ж моя рыбонька! Будет тебе Ренессанс — с Виртой, Грибачевым и Бабаевским!
…На самом деле, проблема — вовсе не в Жданове.
Ждановых — всегда сколько угодно. Если предложить любому нынешнему бонзе, привыкшему к раболепной почтительности — министру, депутату, директору завода, главе корпорации — да хоть «почетному педагогу», хоть «народному писателю», хоть даже (иному) ректору — произнести получасовой спич о культуре (особливо — о современной культуре), после пяти минут благообразных речей о том, что «школьникам надо читать классику», на шестой минуте такой «жданов» польется…
Ждановых — как лягушек в болоте. Дело — не в ждановых и не в конкретном Жданове. Дело в такой общественной структуре, когда от одного-единственного Жданова зависит все: и репутация, и честь, и литфондовские блага, и все возможные заработки, и свобода сына, и собственная жизнь.
Излишне централизованная система опасна тем, что в ней отсутствуют такие важнейшие опции, как «защита от липовецкого» и «защита от жданова». И потому в пределах этой системы липовецкие и ждановы вольны распоряжаться судьбами живых людей.
Ведь при сверхцентрализации рычаги власти достанутся — отнюдь не разумному и порядочному человеку — а либо подлецу, либо дураку — гарантированно, всенепременно.
Так что, может быть, Захар Прилепин зря вызывал дух товарища Сталина?
- 30 учеников частной школы в Челябинске слегли с отравлением
- FT: Отказ Киева разрешить проверку «Дружбы» вызвал недовольство Брюсселя
- Жители Новосибирской области вышли на протест, чтобы отстоять скот
- Глава МИД Ирана оценил возможность новых переговоров с американцами
- В Башкирии лыжник снес девушку и бросил умирать в сугробе
- Зеленский рассказал, на что готов обменять украинские дроны-перехватчики
- На острове Пханган задержали россиянина за торговлю новым наркотиком
- Экс-первого замминистра обороны РФ Цаликова отправили под домашний арест
- Тюменского администратора Telegram-канала арестовали за пособничество терроризму
- Впервые в России разработана методика оценки синдрома самозванца у предпринимателей