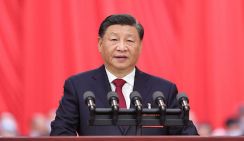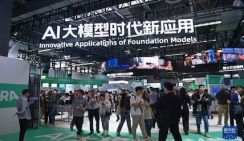«Активы наших диссидентов "морозили" на Западе не только ради их лояльности...»
Сергей Обухов
«Активы наших диссидентов "морозили" на Западе не только ради их лояльности...»
Сергей Обухов
- Полковник Кошкин отреагировал на данные о подготовке контрнаступа ВСУ у Белгородчины
- Виноват замок? В Югре многодетная мать замерзла насмерть на крыльце собственного дома
- Адвокат Гуревич оценила призыв Бастрыкина о полной конфискации имущества коррупционеров
- Пост мэра Киева решила занять главная ведьма Украины
- Квартиру погибшего военнослужащего-сироты пытались забрать у его семьи
- Американист Васильев: США в ситуации с Ираном могут пойти по сценарию Украина — Евросоюз
- В Орске мужчина сломал нос врачу-участнику СВО и разгромил оборудование в больнице
- Озвучен неочевидный фактор снижения либидо
Поэты, которые никогда не встречались
Захар Прилепин: юбилейные очерки
Кажется, это называется «погуглил».
Посмотрел в Сети, да, действительно, ничего нет.
Этим летом у нескольких русских поэтов имел место быть юбилей. Одним поэтам могло бы исполнится 75. Другим, дай Бог здоровья, 75 исполнилось.
Цифра красивая, весящая.
Можно было бы год поэзии объявить — но какая теперь поэзия.
Наверное, близкие помнят, быть может, где-то прошли нешумные публикации — мы не видели; поэтому скажем сами. Запоздало, ну, что ж. Понадеялись, что скажут другие — теперь навёрстываем.
***
1980 год, отец вернулся из Рязани и привёз в наш деревенский дом пластинку. Странная, без картинок обложка, просто с цветовым пятном. Как будто обложку залили разбавленной в воде акварелью — много синего цвета, а по краям розовый и жёлтый. На обложке написано красивое имя «Александр Дольский».
…эта пластинка играла в доме непрестанно, по десять, пятнадцать раз в день. Она и доныне обладает, как минимум, одним волшебным свойством — эти песни не надоедают. Прослушав её тысячу раз в детстве, я принёс её, спустя двадцать лет, своей любимой женщине — и ещё тысячу раз мы послушали её вдвоём. Теперь у нас выросли дети, и они знают песни с этого диска наизусть.
Пластинка называется «Государство синих глаз». Изящная гитара, ритмы босса-новы, тихий, завораживающий, почти вкрадчивый голос Дольского, и строчки, каждая из которых живёт во мне, со мной и никуда не денется.
«Когда по взгляду и по вздоху / Поймёшь, что сделалось с душой. / Когда тебе с другими плохо, / А им с тобою хорошо».
Не знаю, как ему с нами, а нам с ним действительно было хорошо; это «хорошо» надо произносить с мягким, не свистящим, но приглушенным, аристократическим, дворянским «ш», как его Дольский произносит.
Дольский был вне той цивилизации, в которой мы находились тогда — не противопоставляя себя ей, а вполне обособленно проживая внутри, или над.
«На критиков ворчливых века и идей / Смотрю как на мальчишек злобных и лобастых», — пел он, и всё это успокаивало, настраивало оптику зрения так, что мир даже мне, ребёнку, казался более сложным, очень таинственным и добрым, обращённым к тебе.
…много позже я читал, как одна пара, муж и жена, обычные слушатели Дольского, признались, что его песни спасли их от тяжелейшей депрессии, быть может, даже самоубийства.
Про депрессию ничего не знаю, не пробовал — но чувствую, что это истинная правда — песни Дольского действительно обладают врачебным, болеутоляющим, умиротворяющим свойством.
…его, конечно, как и большинство даже достойных художников, серьёзно перекосило на исходе 80-х, в начале 90-х: Дольский насочинял множество несусветных песен про «политику», «экологию» (о том, как коммунистические бонзы высосут весь кислород и уйдут в горы дышать им, а нас оставят умирать) и прочие сомнительные вещи, порой вполне русофобского толка (пластинка «Русский вопрос» — самое ужасное, что вышло из-под его рук — от неё точно можно впасть в депрессию). Дольский словно сам себя спародировал и стал ворчливым, не очень лобастым, но крайне злобным критиком «века и идей».
Однако то, что называется «чутьём художника» быстро увело его от этих тем, и когда в конце 90-х появилась пластинка «Последний полёт», всё стало на свои места. Это снова был прежний Дольский, её голосом и его речами снова можно было лечиться от любого душевного похмелья.
В начале «нулевых» у него появилась даже — вот уж не ожидал — песня «Тоска по СССР», нежнейшая и забавная. Настоящий художник не боится сам себе противоречить. Это только лобастые болваны весь век талдычат одно и то же.
…есть ещё одна тема у Дольского, о которой никто, кажется, не говорил, но сказать стоит.
Несмотря на всё ощущение гармонии и лада, которое исходит от его песен, многие годы Дольский так или иначе описывает свой внутренний религиозный конфликт.
«Те, кто это создал — и луну и звёзды / и труды, и роздых, свет небес, / медные полушки, хитрые игрушки, — / бросил наши души и исчез…»
«Ради Отца не оставлю сына…»
И многое, многое другое.
Но тут случилась вот какая странная вещь.
Разговаривали мы однажды с поэтом Алексеем Кубриком и он сказал слова удивительные и точные: «У Есенина даже богооставленность — тёплая».
Дольского с Есениным не роднит ничего, кроме вот этого, почти невозможного ощущения: человек вступает в нешумный, но упрямый конфликт с бытием и Создателем, но при этом Создатель стоит за каждой строчкой Есенина и за очень большим числом расчудесных песен Дольского.
Как достигается подобный, с позволения сказать, эффект, мы не знаем, но предположим, что (в числе прочих причин) так получается оттого, что конфликт этот происходит не от гордыни и бешеного тщеславия, а от чистейшей и честнейшей душевной муки.
…по гамбургскому счёту, сколь бы не приятно было цитировать его, Дольский, конечно же, не поэт — в классическом смысле. Читать его на бумаге — как камни глодать; и не понятно даже, куда девается вся эта музыка, которой, казалось бы пронизано каждое пропетое им слово.
Но всё это ровно никакого значения не имеет.
Всё равно в этот мир, полный тягот и волокит, Дольский привнёс очень много тепла. Когда тебя охватывает ощущение нудного, пыльного хаоса, ты включаешь «Ленинградские акварели» или «Пейзаж в раме» и вдруг всё разом становится на места: рои стройные светил, нервы, сердце, дух.
Когда в каком-нибудь древнем 1983 году его голос раздавался в нашем доме, в деревне Ильинка Рязанской области, над нашей крышей летали мирные и розовые ангелы, не боящиеся советской власти. У ангелов были кисточки и, макая в синеву, они рисовали синим на синем.
Дольский — акварельный.
Обязательно соберу всех детей в охапку и поеду на его ближайший концерт. «Помните ангелов, которые прилетали к нам на крышу, дети мои? Ваших ангелов вот этот добрый дядя разводит в своей гитаре».
***
А это год, думаю, 1984-й.
Стихи я начал читать с девяти лет, и сразу мне попалась эта замечательная книжка (как позже выяснилось, сшитая и переплетённая отцом из двух отдельных сборников).
Открываешь, и сразу фотография очень молодого, очень красивого человека — чёрный, непокорный чуб, пиджак, галстук, в пальцах зажата беломорина, — и на эту беломорину поэт смотрит почти невидящим взглядом: жаркий огонёк примагнитил зрачки.
Для меня эта фотография — в ряду культовых советских фото: Гагарин с улыбкой, Высоцкий чуть, по-хорошему, как в послевоенном своём московском дворе, набычился, Шукшин сидит на земле… И эта.
На фото поэт Евгений Маркин, очень люблю его; за тридцать лет — так и не разлюбил; хотя мало ли мы стихов с той поры прочли. Много.
…внутри того самодельного отцовского томика были две книжки Маркина: «Звёздный камень» 1963 года и «Моя провинция» 1977-го.
«Звёздный камень» издан ещё в Рязани, каким-то смешным по тем временам тиражом, тысячи в три, в «Моя провинция» уже в маститом «Советском писателе», и с тиражом тоже маститым.
Четырнадцать нехитрых лет — а в них канула без возврата целая эпоха. Книжки отличаются так, как могут отличаться стихи, написанные с разницей в полвека, в жизнь. Как если бы одну книжку писали возле нового дома, пахнущего молодым деревом и чистотой, а вторую — на пожарище; только о пожарище там — ни слова, конечно. Лишь меж строчек сквозит тоска, и невидимый пепел к губам липнет.
«Мою провинцию» предваряет фотография уже другого Маркина: человека явно болеющего, тоскующего, глубоко пьющего — и, прости, Господи, опухшего — как после многонедельного, даже многолетнего бодуна. За 14 лет человек вправе вообще не меняться — так, три морщинки, дюжина седых волос… А тут такое!
Что ж там случилось-то?
Какая сногсшибательная молодость звенит и дышит в первой книжке — вот только что перечитал её, и снова как в самое сердце попало — словно увидел кого-то очень долгожданного и родного.
Наивные, невозможные, чистейшие стихи.
«За дальними отрогами, где ёлки / над пламенем костра сомкнули круг / уснули бородатые геологи / разведчики непознанных наук. / Им брошенной оседлости не жалко / Им звёздный камень снится без конца…»
Звёздный камень, Бог ты мой. Кто сейчас будет всерьёз писать про звёздный камень. Путь Бро, старина, всё вокруг — путь Бро.
«…но мы не скоро бросим ледорубы / И потаённой полночью / навек / к твоим губам прильнут чужие губы, / споткнётся сердце, замедляя бег… / А где-то за далёкими хребтами / я в этот миг стою над крутизной, / нашедший наконец-то звёздный камень, / сложивший руки-крылья за спиной. / И вдруг в ночи торжественной и тихой, / едва забьётся сердце невпопад, / я закричу отчаянно и дико, / как лебеди подбитые кричат! / И крик заходит эхом по округе, / в ущелье руша камни и пески. / Я закричу — и в небо вскину руки, / и сердце разорвётся на куски!»
И дальше вот так: «Но в те года /когда пройдут исканья, / когда помолодеет шар земной, / твой стройным сын уйдёт за звёздным камнем, / дорогами, проторенными мной. / А возвратясь, счастливый от успеха, / он вдруг тебе поведает с тоской / легенду про блуждающее эхо… / И ты за сердце схватишься рукой!»
Вот такие были времена, когда всерьёз можно было говорить про «помолодевший шар земной», про верность, про эти, чёрт побери, «проторенные дороги», и колючий огонёк беломорины всё напоминал и напоминал звёздный камень. Про такое ж невозможно теперь писать, это ж полный моветон, господа.
Одна беда: у них, у тех, что писали тогда — было за всё заплачено: они право имели, которое много выше всего нынешнего скепсиса по поводу и без повода, и нынешнего знания, что «так писать — нельзя».
«Я помню жактовскую комнату. /В ней было венское окно. / Играли мамины знакомые / По воскресеньям в домино. / А я мешал. И на ночь глядя / Мне говорили: „Спать иди“…/ И был средь них весёлый дядя — / Сержант с медалью на груди. / Не избалован, безобиден/ Я уходил на сеновал. / Но как-то раз в окне увидел: / он маму /маму целовал! / Я долго плакал на сушиле. / А по утру из-за трюмо / украл поблёкшее от пыли / отца погибшего письмо».
Где-то в этой боли таится их право.
У них за плечами было военное детство, тоскливая безотцовщина, и как малая расплата за тот ад — всего через пятнадцать лет после победы — космический полёт. (Через пятнадцать лет, вдумайтесь! У нас «либеральные реформы» уже двадцать пять лет идут, но сколько бы не твердили нам про «эволюцию», ни один Гагарин над нами не взлетает).
От безотцовщины и космического полёта у того поколения была — кромешная жажда по подвигу.
И эта наивная страсть — она, говорю, стоит дороже наших скудных разочарований.
…что до самого Маркина — то с ним случилась беда, которая, к несчастью, оказалась куда известнее его стихов.
Он жил в Рязани, как раз, когда там работал Солженицын — они общались; быть может, даже были дружны: из рязанских писателей Александр Исаевич принимал у себя только Маркина, факт.
В 1969 году Солженицына исключили из Союза писателей, а сначала — из рязанской писательской организации — и Маркин за это проголосовал. Все проголосовали, и он тоже, сто раз оговорившись: «Я работал сотрудником газеты „Литература и жизнь“ в то время когда раздавались Солженицыну небывалые похвалы. С тех пор наоборот: ни о ком я не слышал таких резких мнений, как о Солженицыне. Вспомним, как поносили Есенина, а потом стали превозносить… Но конечно хочется спросить Александра Исаевича, почему по поводу той шумихи, что подняла вокруг его имени иностранная пресса, он не рассказал нам?»
Вопрос, и правда не досужий, а глубокий, сердечный: мы же виделись, Александр Исаевич, я же прочитал твои рукописи — но вот этот шум на Западе, он зачем тебе? Так надо?
…два года спустя Маркин — в сущности, уже признанный, первостатейный советский поэт (выступал в Политехническом музее — где Евтушенко с Окуджавой выступали; публиковался в «Комсомольской правде» с её миллионными тиражами, на Всесоюзной радиостанции «Юность» Маркину посвятили, ошалеть, целых десять программ; «второй Есенин!» — уверенно аттестовали его), умудрился опубликовать в «Новом мире» стихотворение «Белый бакен»:
…Каково по зыбким водам
у признанья не в чести
ставить вешки пароходам
об опасностях в пути!
Ведь не зря ему, свисая
с проходящего борта,
машет вслед: — Салют, Исаич! -
незнакомая братва.
На самом деле, стихотворение про бакенщика, с остроумным финалом «Не ходите, девки, замуж / на чужую сторону». Но все всё поняли. Стихотворение пошло по рукам не хуже лермонтовского на смерть поэта.
Совесть, видимо, замучила поэта, вот он исхитрился и передал Исаичу привет на всю страну.
Когда стихи дошли ровно до ЦК, пошла обратная волна.
Евгения Маркина исключили из Союза писателей, а далее последовал 561 день лечения в ЛТП.
Следом он попал в фактическую ссылку — и четыре с лишним года просидел в своей родной деревне Клетино — вышибли из первого ряда и загнали под стол: трудись художником-оформителем и думай над своими ошибками.
Некоторое время его не публиковали вообще.
Потом простили. Пошли чередом публикации. Всё ещё можно было вернуть — на пороге сорока-то лет! Ерунда, а не возраст.
Но звёздный камень в груди уже перегорел. Потух вместе с беломориной — на той, первой фотографии.
У Маркина на жизнь оказалось куда меньше сил, чем у Солженицына.
В ноябре 1979 года он умер.
(В антологии «Строфы века», составленной Евгением Евтушенко, почему-то написано, что год смерти — 1988-й).
Ему был всего 41 год. На последних фотографиях Евгений Маркин выглядит так, будто ему за семьдесят. Вот как сейчас было бы. Но он заранее прожил этот срок…
Итог таков.
Евгений Маркин — автор нескольких классических стихотворений. Он занимал позицию срединную между «стадионной поэзией» (Евтушенко, Рождественский) и «тихой лирикой» (Рубцов, Куняев). По масштабу дарования Евгений Маркин не уступает никому из вышеперечисленных. На Рязанщине ежегодно проходит чтения памяти этого поэта. Но в целом, для страны, никакого Евгения Маркина нет. И это грустно.
Ни одному издателю не придёт в голову издать книжку Маркина. Если б издатель нашёлся — я б лично за так собрал отличный сборник и подробно описал в предисловии, почему сей поэт хорош. Но надежды на это — никакой.
Остаётся надеяться только на то, что «время всё расставит по своим местам».
Хотя посмотрите на это время внимательнее — кого оно может расставить вообще?
Вы скажете: может, оно сменится. А если оно всегда будет таким? Так и жить в нём?
Признайтесь честно, ведь вы немного ужаснулись тому, как Маркина вышибли из популярных советских поэтов и на четыре года спрятали в подпол? А то, что его теперь не публикуют и ещё сорок четыре года не опубликуют — это как бы и ничего? Как бы так и надо?
Странное свойство сознания, неправда ли?
***
Наверное, уже 89-й. Или какой-нибудь тошный 92-й. Вовсю «перестройка».
Читаю какой-то журнал тех времён — то ли «Юность», то ли вообще «Работница» (тогда любая «Работница» и «Крестьянка» публиковали подборки стихов, вот ведь).
Шесть, кажется, авторов на развороте, у каждого по два-три стихотворения. В пяти случаях ничего существенного не обнаружилось, а один поэт понравился.
Десять лет я его имя не слышал, а если слышал — никак с тем стихотворением услышанное имя не связывал.
Но потом, на берегу реки, в нижегородской глуши сидим с женою на песочке — и листаем найденные на чердаке старые журналы.
Снова, надо же, попадаю на ту же подборку, снова глаз скользит по развороту ничего не замечая, и снова попадаю на всё то же стихотворение.
Даю жене, она подтверждает: «Прекрасно».
Трижды перечитали по очереди, забирая друг у друга журнал, а потом ещё раз вместе, вслух, склонившись над страницей.
Поэта звали Лев Лосев.
Какое именно стихотворение там было я не помню; но, по-моему, у него вообще нет плохих стихов. Или он их не опубликовал.
Настоящее им его — Лев Лифшиц. Но, видимо, он однажды решил, что Лифшиц не самая лучшая фамилия для поэта. Тем более, что поэт с такой фамилией уже был — а именно: его отец, питерский сочинитель Владимир Лифшиц. (Кроме того, имел место быть ещё и футурист Бенедикт Лившиц).
Влияние поэзии отца на поэзию сына очевидно. Об этом мало говорят, потому что отца давно никто толком не читал. Куда чаще говорят о влиянии на поэзию Лосева его товарища — Иосифа Бродского. После смерти Бродского, Лосев напишет очень сухое, сдержанное и достойное жизнеописание нобелиата (см. серию ЖЗЛ).
Лосев, пожалуй, действительно развил то направление Бродского, что не было у него магистральным — интеллектуально-саркастическая чечётка по поводу оставленной страны и её православно-гэбистских реалий.
Собственно, а чем ещё может заниматься человек с таким именем: «Лев Лосев». Понятно же, что на уме у поэта, берущего себе нарочито зоологический псевдоним; по звучанию, впрочем — безупречный. На уме у него — мрачная ирония, с элементами мизантропии, обращённая всё-таки не к человечеству в целом, а к оставленной России (он эмигрировал в США) — «стране Чека (зэка, цэка)», как сам Лосев формулировал в одном из программных стихотворений.
«Маманя корове хвостом крутить не велит. / Батяня не помнит, с какой он войны инвалид. / Учитель велит: опишите своими словами. / А мои слова — только глит и блит / Однажде Ваське Белову привидился Васька Шукшин. / Покойник стоял пред живым, проглотивши аршин, / и что-то шуршал. Только где разберёшь — то ли голос / то ль ветер шумит между ржавых комбайнов и лопнувших шин».
Стихотворение «Деревенская проза».
Вообще я должен всё это ненавидеть. Но мне всё это ужасно нравится.
Когда имеешь дело с мастерством художника — идеология становится ненужной.
Мне достаточно того, что Россия для Лосева так и осталась самым главным жизненным потрясением и смыслом — он так и не смог от неё отвязаться (даже Бродский — и тот почти смог; по крайней мере цель такую себе поставил; и ей следовал; а Лосев даже не пытался).
Кого, как не своих псевдосотоварищей по ремеслу, а отчасти и самого себя пародировал Лосев в таких, например, стихах, где некий сочинитель произносит свой надрывный монолог: «Не люблю этих пьяных ночей, / покаянную искренность пьяниц, / достоевский надрыв стукачей оскорбительны наши святыни, / все рассчитаны на дурака, / и живительной чистой латыни / мимо нас протекает река. / Вот уж правда — страна негодяев: / и клозета приличного нет»…
И далее, неожиданное, про этого поэта: «Но гибчайшею русскою речью / что-то главное он огибал / и глядел словно прямо в заречье / где архангел с трубой погибал».
Всю жизнь Лосев смотрел — и видел, и описывал, — стукачей, негодяев и пьяниц, — а видел при этом архангела, и гибчайшей русской речью упивался, и править по реке этой речи умел как никто другой.
И Есенина (его поэму «Страна негодяев», с известным монологом Чекистова о клозетах) он вспоминает не случайно.
Лосев — поэт-почвенник. Потому что другой почвы у него не было.
Разве что он привил сюда ещё немного живительной латыни, и она, знаете ли, проросла под его умными руками.
Он умер 6 мая 2009 года, написав пред ожидаемой со дня на день смертью несколько преисполненных античной красоты и мужества стихотворений.
***
Мне кажется странным, и восхитительным, и даже завораживающим, что в 1958 году всем им было по 20 лет. Где-то жил Лосев, и ему было 20. Где-то жил Дольский и ему было 20. Где-то жил Маркин, и ему было 20. Настаивать не стану, но, по-моему, году в 60-м они могли втроём случайно встретиться в Москве — Маркин тогда учился в Литературном институте, а Дольский и Лосев наверняка бывали в столице, гуляли в районе Тверской — а где ещё гулять поэту?
Встретились, разговорились, пива бы выпили, например. Каждый бы лукаво думал про себя, что именно ему предстоит великое будущее.
Впрочем, Владимиру Высоцкому и Александру Проханову тогда тоже было по 20, они ж ровесники. И Юнне Мориц, и Белле Ахмадулиной — по 20. Владимиру Маканину и Андрею Битову по 20. Олегу Чухонцеву и Геннадию Шпаликову по 20.
Дети 37-го и 38-го.
Все могли бы встретиться. Может быть, даже встречались. Ещё до того, как началась вся эта история, а была только магма, юность, беспамятство, медленное выплывание в жизнь.
Или уже потом встретятся. Когда снова будет магма, беспамятство, выплывание, юность.
Я хотел бы посмотреть.
…народы, которые не помнят своих поэтов — и не народы уже. Это — толпы.
- Создатель ЕГЭ считает, что экзамен помог закрыть коррупционную нишу репетиторства
- Названо допустимое количество шоколадных конфет в день
- На Урале задержали ОПГ мошенников, похитивших десятки миллионов рублей на отлове собак
- ЦРУ работает над вооружением курдов — CNN
- Квартиру погибшего военнослужащего-сироты пытались забрать у его семьи
- Названы продукты для защиты иммунитета в межсезонье
- Берни Сандерс: Политика США должна определяться американским народом, а не Нетаньяху
- Виноват замок? В Югре многодетная мать замерзла насмерть на крыльце собственного дома
- Адвокат Гуревич оценила призыв Бастрыкина о полной конфискации имущества коррупционеров
- Назван фрукт-помощник при больных почках