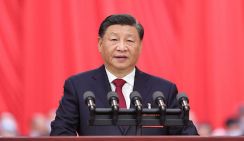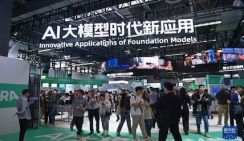«Застройщики клянчат господдержку — даже те, финансовое положение которых устойчиво...»
Татьяна Куликова
«Застройщики клянчат господдержку — даже те, финансовое положение которых устойчиво...»
Татьяна Куликова
- Фон дер Ляйен сделала неожиданное признание об атомной энергетике в ЕС
- Житель Петербурга подал иск в суд из-за «антиобщественных» программ фигуристов РФ
- Такер Карлсон сделал жесткое заявление после атаки на иранскую школу
- В Кремле объяснили, с чем связаны возможные ограничения связи
- Американский Bombardier ARTEMIS II патрулирует воздух вокруг Калининграда
- Жертва истекла кровью: в Иркутске арестовали подростка за убийство мужчины возле ТЦ
- Екатеринбуржец лишился жилья после помощи мигрантам
- Рада провалила голосование за законопроект, необходимый для получения кредита МВФ
Прогулки по журнальному саду
Прогулка тринадцатая: лирика и грубая реальность
Диптих о лирике — экспрессионист и импрессионист — на устах июня — разбуженный лунатик — грабли и вилы — глазами туриста — бальзамные стихи — полсолнца дромадера — синие и красные сдвиги — чужая среди своих — праздник на моей улице — случай из практики — Павловский против Павленского — под властью злых детей.
Ко мне пришли два сборника стихов. Сварганю-ка из них «критический диптих о лирике», а на десерт — порассуждаю о грубой реальности. О литературных премиях — о «Большой книге» и о «Букере», о премиальных итогах нынешнего сезона, о странных реакциях общественности на эти итоги и на всероссийские культурные мероприятия.
Борис Примеров как поэт доселе был малоизвестен мне. Когда-то я, будучи читающим подростком, увидал в альманахе «День поэзии-1984» длинное примеровское стихотворение «След шмеля». Оно мне не понравилось, показалось многословным и натужным. С той поры я надолго потерял интерес к этому поэту.
На днях я прочитал посмертный сборник Бориса Примерова «И нецелованным умру я. Стихи и поэмы» (Ростов-на-Дону, 2013). Теперь я изменил своё отношение к Примерову. Я понял, что некогда нарвался, увы, не на лучший его текст. Я осознал, что Борис Примеров — талант очень сильный. Но неустойчивый (и он не устоял).
Бориса Примерова часто сравнивали с Сергеем Есениным. Борис Примеров совершенно не похож на Сергея Есенина.
Есенин мог писать по-разному, но он всегда писал сбалансировано, выверено — в плане образной системы, интонации, звуковой инструментовки. В стихах Есенина всё точно, всё — «по делу» (по пасторальному делу или по имажинистскому делу — но всегда «по делу»)
Борис Примеров же — поэт-экспрессионист, писавший густо, смутно, шатко и впечатляюще. В своей основе он — «певец одной темы», пейзажный лирик. Примеров никогда не объективизирует пейзаж (как Бунин); природный мир извне для него неотделим от взвихренного состояния собственной души. Почти все примеровские стихи описывают хаотическое единство лирического героя с казачье-станичной, донской природой. Форма выражения этого вполне традиционного базиса — сугубо модернистская: образы вступают меж собой в непостижимые связи, эпитеты лихо меняются местами — и всё перекрывается мощным криком удивлённого юного преклонения пред Бытием. Примеров любил Бориса Пастернака; но ранний Пастернак экспрессивно выражал разные чувства, а у Примерова — одно и то же чувство на все стихи. Примеровская поэтика ближе не Есенину, не Пастернаку, а вожаку «СМОГа» Леониду Губанову (эти поэты итогово оказались в разных социокультурных контекстах, но исходно они очень близки).
Разве ты, любимая, не слышишь,
Как целуют небо журавли
Всеми поцелуями России,
Всеми поцелуями земли?
Это чувство не измерить меркой
От меня и до тебя. Оно,
Словно белокаменная церковь,
Разумом души возведено.
Колокол росы ударит в сердце,
И прольётся в листья сентября
Песня, не похожая на песню,
Всё и ничего не говоря.
(«Месяц к небесам неравнодушен…»).
Здесь доведена до есенинского совершенства только третья, последняя строфа из приводимого отрывка. Всё остальное — очаровательная кавалеристская небрежность, которая так восхищает меня в шалой лирике Губанова («Я беру кривоногое лето коня, как горбушку беру, только кончится вздох. Белый пруд твоих рук очень хочет меня, ну а вечер и Бог, ну а вечер и Бог?»).
Вот ещё — пожалуй, одно из лучших стихотворений Бориса Примерова…
Румянец лета, молодой июнь,
Поговори на полевом наречье,
Чтоб задохнулся запахами лун
Ещё один твой запоздалый вечер.
Ты гость у неба нынче на пиру —
Тиха вода, да омуты глубоки.
Я снова на устах твоих замру,
Товарищ мой, июнь голубоокий.
Ты посулил берёзовые дни
Из освежающей, прохладной рощи.
И вот шумят передо мной они —
Нет ничего надёжнее и проще.
Так рожь шумит, готова зацвести,
Завладевая постепенно летом,
Но ветра нет, лишь белые пути
Неосторожно догорают где-то.
О как светло! Таких не будет дней
Уж никогда на сердце, как сегодня.
Заздравный кубок пенистых огней
Ты выше всех за всех сегодня поднял.
Горит кругом на травах полевых
И плещется заздравный этот кубок.
Я снова замер на устах твоих —
От жажды петь пересыхают губы.
Если расслабленно плыть по волне магически нарастающего лиризма, эти строки будут неотразимы. Но лучше не вдумываться в смысловое соотношение образов, взятых автором произвольно — на этом пути можно дойти до радуги. «Наша принцесса так невинна, что может по неопытности сказать ужасные слова».
Ранняя поэзия Бориса Примерова — хорошая поэзия. Но это — хорошая бездумная поэзия. Бывают такие поэты — очень хорошие, но бездумные, стихийные (например, Языков или Бальмонт). Слава Всевышнему, Примеров почти не пытался войти в область рациональной тематики; его «идеологические стихи» немногочисленны. И это радует.
Тем не менее, типичный для «советской почвеннической поэзии шестидесятых-семидесятых годов» культ чувства (при недоверии к уму) сыграл с Борисом Примеровым плохую шутку.
Если лунатика, идущего по крыше, разбудить, он очнётся и сорвётся вниз. С Примеровым произошло нечто подобное…
По мере взросления свежесть юных эмоций стала пропадать (как оно свойственно всякому человеку). Лунатический «безупречный вкус живого чувства» ушёл, а «вкус вкуса», «вкус ума» так и не пришёл на смену. В ранней поэзии Примерова экспрессионистские взвихренности являлись сами собою — как импульсы молодой души — и были очаровательны; позже их пришлось специально моделировать — притом без участия какого бы то ни было вкуса.
В творчестве Бориса Примерова восьмидесятых-девяностых годов неприятно удивляет сочетание сухости с бесцельно-автоматической эксцентричностью удалого пера.
Прочь домыслы!
Чёрная проза
Да здравствует! — Сверху до дна
Морозы и конские розы,
Потом — ароматы зерна (напрашивается другая рифма — К. А.).
Потом — мягче птичьего пуха,
В единственном только числе —
Как месяц на небе, краюха
Буханки ржаной на столе.
Подкармливать надобно силы,
А всё остальное — не в счёт,
Похожий на грабли и вилы,
Трудящийся день настаёт.
(«Прочь домыслы!»).
«Трудящийся день, похожий на грабли и вилы» — это может показаться по обэриутски, по-олейниковски прикольно; беда в том, что эдакие «прикольные грабли и вилы» — разбросаны чуть ли не на каждой странице «позднего Примерова» (а страниц у «позднего Примерова» немало). По сути Борис Примеров повторил судьбу старшего коллеги — Виктора Бокова, разменявшего большой певучий русский дар на безответственное строкогонство, осуществляемое с хитреньким добродушно-лукавым прищуром.
До боли жаль поэта-дончанина с живой душой, с трагической судьбой, с жуткой гибелью. Но он сам выбрал свою судьбу — во всём. И он сам выбрал свою гибель.
Полагаю, что в грядущие антологии несомненно войдёт пронзительная «Молитва» Примерова («Боже, помилуй нас в смутные дни, Боже, Советскую власть нам верни»).
Но и это стихотворение свидетельствует лишь о горячем сердце поэта. А не о его уме.
Второй сборник стихов, прочитанный мной — «Неспящая бухта» москвича Евгения Чигрина (М.: «Время», 2014).
Евгений Чигрин близок Борису Примерову тем, что он — тоже «певец одной темы» и пейзажный лирик, пропускающий внешний мир через собственное сознание.
Но Примеров был «деревенским поэтом» и домоседом, а Чигрин — «странствующий горожанин». Если он пишет не городские пейзажи, это значит, что он — на отдыхе (и даже если он пишет городские пейзажи, это тоже почти всегда значит, что он — на отдыхе).
(Не стану воскрешать конфликты советской социокультуры семидесятых годов — между «селянами» и «горожанами-отдыхающими»; эти конфликты были вызваны проблемами советского общества и вдобавок нарочно стимулировались властью).
Ещё различие между Примеровым и Чигриным: Чигрин — не экспрессионист, а импрессионист. У него побольше красок в палитре, но приёмы его письма — гораздо традиционнее. По генезису Чигрин — правоверный (нео)акмеист из железного гнезда Н. Гумилёва — Г. Шенгели-Арк. Штейнберга — Арс. Тарковского — Евг. Рейна- М. И. Синельникова (а ведь у Примерова в родне — не только «почвенники-деревенщики», но и некоторые футуристы — эта братия помодерновее акмеистов).
Поэзию Чигрина хвалят Евгений Рейн, Бахыт Кенжеев, Юрий Кублановский, Андрей Битов. Похвалы — заслуженные: Евгений Чигрин — прекрасный поэт, наделённый уникальным, потрясающим чувством слова, чувством пейзажа, чувством цвета, света и фактуры увиденного. Лиловато-маслянистое Причерноморье, зелено-влажная Украина, жемчужно-серый Париж, сиреневая Бретань, сумрачно-бурая Фландрия, бронзово-сизая Польша, бело-золотистая Аравия, охристая Индия, яшмово-жёлтый Китай, малиновый Цейлон, пёстрая Океания, коньячный Ереван, медная и снежная Москва… Все географические пространства, все локусы уловлены и отображены удивительно точно.
Между Примеровым и Чигриным есть ещё сходство: у Чигрина тоже — одно-единственное чувство на все стихи. Однако это чувство — не примеровское бешеное упоение Бытием; оно — поспокойнее. Определю его так: сдержанное приятие Бытия, совмещённое с грустью и ностальгией; как правило, оно проявляется на фоне лёгкого опьянения (экзотические алкогольные напитки — всенепременные атрибуты чигринской лирики). Иногда Чигрин для мужественного снижения интонации вмонтирует в свои строки «грубые словечки» — такие, как «вмандаринишь» или «дружбандель»; их немного, и они — тоже алкоголь своего рода. Также у него встречаются отдельные лексические, ритмические и интонационные «бродскизмы», впрочем, поверхностные — природа лиризмов Бродского и Чигрина несовместима. Чигрин отличается от Бродского в той мере, в какой турист отличается от изгоя; в одних и тех же местностях взгляд туриста и взгляд изгоя — не совместятся ни в чём. Некогда Бродский в Стамбуле — взбесился от азиатства; а Чигрину Туретчина приемлема…
Припоминай, бывала жизнь порой совсем неслабой: кубовое море
В Туретчине, в Кемере… Золотой закат там возникал, как поневоле…
(«Кемер: 10 лет спустя»).
Вот оно слово: турист. Лирический герой Евгения Чигрина — турист. Ни в коей мере не «мужик» (как у Примерова); он, этот герой — респектабельный уверенный «мэн» в шортах и с фотиком, однако — не весёлый дикарь-развлекатель, а турист воспитанный, утонченный, элегический. Он неспешно смакует свои путешествия — по городам и странам, по музыке (классической или джазовой), по живописи, по заграничным кинофильмам, по «книжным страницам детства», по воспоминаниям и ассоциациям — наслаждаясь пряными красками и звуками. Поэзия Чигрина иногда бывает очень печальной, но она никогда не может стать трагичной — даже если поэт повествует о трагических вещах. Она всегда комфортная и отстранённая.
Я не рекомендую читать стихи Чигрина в больших количествах. Вообще в больших дозах не стоит читать ни одного поэта (даже Пушкина). Но Чигрина нельзя усваивать в больших дозах — безусловно.
Поэзию разных авторов можно сравнить с разными напитками. Поэзия Бориса Примерова — хмельная самогонная настойка на донских травах, а поэзия Евгения Чигрина — это бальзам. Густой, целебный, благоуханный и нездешний по вкусу. Бальзам подобает принимать по каплям (в крайнем случае — по рюмочке).
Вот — изумрудная «рюмочка Запада».
Заем изумрудный абсент на улочке старого Арля,
Как будто привычный клиент, в накате хмельного удара.
Когда-нибудь, в старом кафе в обнимку с огромным везеньем,
Провансом, с которым в родстве, с безоблачным стихотвореньем.
(«Абсентовое»).
А вот — ало-золотая «капелька Востока».
Там пальмовый Габес впадает в лёд, там всадник фиолетовое сбросил,
В рубцах и язвах солонеет шотт, в снегах и листьях маленькая осень…
Взгляни: встаёт на медленных ногах гранатовым закатом подсознанье,
Полнеба перекраивая, как повозки на зашарпанном экране
В потерянном «когда-то»… Полумрак? Скорее бедуинская химера
Погонщика, отставшего на шаг, впитавшего полсолнца дромадера.
(«Сахара»).
Отдельного респекта заслуживает словарный запас Евгения Чигрина. Он огромен, он почти неисчерпаем. Иногда мне кажется, что он — слишком большой.
А теперь поговорю о грубой реальности, то бишь о «Большой книге» и о «Букере».
Заявлю заранее: я не читал водолазкинский «Лавр» — этот роман не публиковался в литературных журналах, он не добрался до майкопских книжных магазинов, и в Интернете я его не сыскал; оттого не скажу ничего о «Лавре». Те же тексты из шорт-листа «Большой книги», которые я читал, уже рецензированы мной — притом на этом сайте.
Прокомментирую странную реакцию (и странное отсутствие реакции) литературной общественности на некоторые из этих текстов. Я условно определил всё это в астрофизической терминологии — как «синий сдвиг» и «красный сдвиг».
«Тексты синего сдвига» — оценены общественностью ниже своего реального значения; «тексты красного сдвига» — наоборот, перехвалены.
Тексты синего сдвига" - «Тётя Мотя» Майи Кучерской и — в определённой мере — «Красный свет» Максима Кантора (прошу прощенья за невольный каламбур). Но Кантора общественность бодро обглодала полгода назад — и забыла о нём. На Кучерскую же все набросились только сейчас…
Так заведено: есть литераторы свои для общественности — и есть чужие. Чижова — своя (хотя Чижову читать невозможно); Колядина — до крика чужая (ибо явилась из тёмных глубин российского унгрунда). Дмитриев — свой, Кантор — чужой. Улицкая — бесспорно своя. Я полагал, что Кучерская — почти Улицкая, и потому она своя. Я ошибся. Как выяснилось, Кучерская оказалась чужой.
Собственно говоря, «Тётя Мотя» Кучерской — обыкновенная «массовая литература», «женский роман» о любовном треугольнике. Как «женский роман» «Тётя Мотя» написана хорошо; если текст Кучерской портит что-либо — так это претензии на «нечто большее», чем «просто массолит». «Тётя Мотя» заслуженно получила приз читательских симпатий «Большой книги»: массы, как им свойственно, голосуют за «массовую литературу».
Может быть, для общественности чужой — тот писатель, который пишет «массовую литературу»? Тогда для неё должен быть чужим Акунин, однако он — свой. А может, дело — в конкретном жанре «женского романа»? Или в сопряжении «женского романа» с православной тематикой? Но Улицкая…
Нет, я не просекаю правила игры, в которую играет литературная общественность…
«Тексты красного сдвига» же — это — в некоторой степени — «Вор, шпион и убийца» Юрия Буйды и особенно «Описание города» Дмитрия Данилова.
С Буйдой — сложный случай: я не только уважаю Юрия Васильевича Буйду, но и лично признателен ему (был повод). Но меня давно беспокоит, что (уважаемый мной) Юрий Васильевич Буйда увлечён нездоровыми (на мой взгляд) вещами, а литобщественность это не волнует. Вот и «Вор, шпион и убийца» словно бы посменно писан двумя разными авторами; один автор — адекватный, умный, глубокий и проницательный собеседник, но его напарник… нездоров, скажем так.
Ну а даниловское «Описание города», как я неоднократно говорил — лишь фокус — незлой, безобидный; но отчего ж фокус (лишь фокус) привлёк такое всеобщее внимание?!
Обращусь к «Букеру-2013».
"Букер-2013″ - праздник на моей улице: после трёх кряду неудачных «Букеров» наконец-то премии удостоилась качественная проза. Могу сказать, что «Возвращение в Панджруд» Андрея Волоса по уровню профессионализма и по увлекательности не уступает советским эталонам историко-ориентального жанра — книгам Мориса Симашко или Василия Яна.
Но — удивительное дело — «Возвращение в Панджруд» не в «синем сдвиге» и ни в «красном сдвиге» («отклонение — ноль»). Эту книгу наша общественность просто не заметила — ни в журнале «Октябрь», ни в шорт-листе «Большой книги» — и почти не замечает даже после «Букера» (минимум откликов). Это меня тревожит.
Конечно, Андрей Волос — прозаик-хорошист. Но игнорировать хорошистов резонно только там, где есть отличники. Где наши отличники? Кто отличник — неужто Акунин, искренне полагающий Даждьбога «богом дождя»? Кого общественность предпочла Андрею Волосу? Дмитрия Данилова? Владимира Сорокина? Двух фокусников — доброго фокусника и недоброго фокусника.
Я считаю, что не исчерпаны возможности и перспективы профессиональной прозы — с выписанными персонажами, с конфликтом идей, с неожиданными поворотами сюжета, с грамотным и точным языком, с доскональным владением темой повествования. Ещё я считаю, что также не исчерпаны перспективы профессиональной поэзии и профессиональной драматургии («ладно скроенных пьес»). Но «ладно скроенные пьесы» сейчас у нас не пишут; поэтический профессионализм — дело тонкое, доказать и показать, в чём он проявляется, я уже не в силах никому. Проза в этом отношении выгодно отличается от поэзии: профессиональную прозу видно сразу.
Но профессиональная проза неинтересна общественности.
Некогда я повсеместно хвалил (и даже номинировал на «Национальный бестселлер») прекрасно написанный роман Олега Дримановича «Солнцедар». Прошло время — «Солнцедар» канул в Лету при всеобщем равнодушии; и многие десятки других произведений профессиональной прозы канули в Лету, и «Возвращение в Панджруд» канет в Лету (хоть и награждено «Букером»).
…Вспоминаю случай из практики. В моём университете проходил конкурс вузовских газет южного региона — в формате «народного голосования»: посетители выставки должны были карточками проголосовать за наиболее понравившуюся газету. На выставке были представлены издания высокопрофессиональные — в плане концепции, вёрстки, языка и стиля публикаций, содержательного контента (и т. д.). И была одна газетка — оставлявшая желать лучшего — в плане концепции, вёрстки, языка и стиля публикаций, содержательного контента (и т. д.) — но необыкновенно яркая, такая, что её краски было видать с противоположного конца зала. И эта броская газетка собрала все посетительские карточки, а на высокий профессионализм лучших изданий — на концепцию, вёрстку, язык и стиль публикаций, содержательный контент (и т. д.) никто внимания так и не обратил.
В условиях, когда невозможно определить правила игры, выявить, где свои, а где чужие — остаётся опираться только на объективные критерии. Профессионализм — объективный критерий. Грамотность верифицируема (в отличие от прочих категорий).
Однако в «фельетонную эпоху» профессионалы не интересны публике; ей любы лишь фокусники да ярмарочные зазывалы. Честный художник-станковист может бесконечно оттачивать своё мастерство (хоть традиционалистское, хоть модернистское) — всё равно он не продвинется дальше блошиного рынка: всё «изобразительное и пластическое искусство» выродилось в глобальный КВН. Кавээнщикам-актуальщикам — все выставочные залы и все рецензии арт-критиков, а художнику-станковисту — берет, вино, базар, комиссионка и безвестье. В поле «политических высказываний толпа заметит и отметит — не профессионала Павловского, а Павленского. Что проще — приколоти собственные тестикулы гвоздями к брусчатке — и вот ты и борец, и интеллектуал.
Ну, пущай публика обсуждает Сорокина и Данилова. А я — буду хвалить Андрея Волоса за то, что он — профессионал во всём, не допускает ошибок в построении предложений и отличает Аббасидов от Омейядов, а исмаилитов от шиитов.
Прошло Литературное собрание с участием В. В. Путина. Как я предполагал заранее, оно породило лишь несколько незначительных коллизий и недоразумений, то есть закончилось ничем.
Меня заинтересовали отдельные реакции на это событие — к примеру, реакция Станислава Львовского.
Я поймал себя на том, что вдруг понял: Станислав Львовский стесняет мою свободу сильнее, чем её мог бы стеснить В. В. Путин.
Я не был на Литературном собрании: я живу далеко от Москвы, меня на Литературное собрание не приглашали. Если бы я жил в Москве и если б меня пригласили на Литературное собрание, я бы мог пойти, а мог бы не пойти — в зависимости от моего настроения. Я не могу сказать, что Путин заставляет меня приходить на Литературное собрание, но я могу сказать, что Станислав Львовский заставляет меня (в совокупности всех литераторов) не приходить на Литературное собрание — именно заставляет — во всеоружии «нравственного воздействия».
Вот так начитаешься Львовских — и вспомнишь слова Николая Гумилёва: «Уж лучше быть под царской властью, чем быть под властью злых детей».
- Мема заявил, что власти Финляндии ведут подготовку к войне с Россией
- Эксперт сделала прогноз курса доллара на фоне резких скачков цен на нефть из-за войны в Иране
- Машину нашли у входа в нацпарк: в Красноярском крае загадочно исчез 55-летний мужчина
- В Пентагоне анонсировали самые интенсивные удары по Ирану 10 марта
- Экс-тренер «Спартака» сорвал переход форварда «Зенита» в «Црвену Звезду»
- ФАС высказалась о запрете рекламы на платформах с ограниченным РКН доступом
- Хавбек «Локомотива» Пиняев выбыл до конца месяца
- Рада провалила голосование за законопроект, необходимый для получения кредита МВФ
- Американский Bombardier ARTEMIS II патрулирует воздух вокруг Калининграда
- Житель Петербурга подал иск в суд из-за «антиобщественных» программ фигуристов РФ