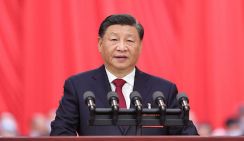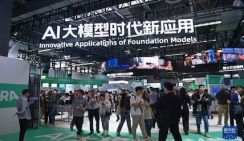«Застройщики клянчат господдержку — даже те, финансовое положение которых устойчиво...»
Татьяна Куликова
«Застройщики клянчат господдержку — даже те, финансовое положение которых устойчиво...»
Татьяна Куликова
- КСИР: самолет-заправщик США был сбит ракетой
- НАТО пригрозило всем помощникам Ирана
- Полковник Бо: Израиль не смог противостоять ударам Ирана
- Орбан решил ответить на агрессию Зеленского
- Флот США открыл огонь по иранскому судну, но не попал
- Зеленского на Западе обвинили в нацизме
- Минфин США выдал траты на войну с Ираном
- Дроны ВСУ атаковали Адыгею
Прогулки по журнальному саду
Экскурсия четырнадцатая. Анализируй это
Опустились руки — гордое негодование — логика тёти Дарины — Рахель среди бандеровцев — цианид в майонезе Майдана — две программы — советская оптика — гнилая серединка — треснувший кувшин — троица «Букера» — согласно правилам — шинкованная образность — меняя даму на дамбу — ласточка и пустельга — скованное Я.
Литературные журналы вновь приходят в Республиканскую библиотеку Майкопа. Я начал их читать, и у меня опустились руки: за год журналы прошли очередной отрезок своего долгого пути вниз. Вот в январском номере «Знамени» мой визави Георгий Давыдов, вот его рассказ «Итальянская штучка» (снова «про артистов» и опять «с прототипом»). Могу сказать, что эдакую концентрацию самодовольной, богемно-каботинской пошлости я раньше встречал только в некоторых «перестроечных пьесах» — таких, как «Перламутровая Зинаида» или «Наш декамерон». Говорят, в прошлом году Георгий Давыдов публиковал повесть «про Веничку Ерофеева»; Господь миловал меня от её прочтения: к актёрам, живописуемым Давыдовым, я равнодушен, но Веничка Ерофеев — всё же дорог мне.
Поскольку все сейчас говорят только об Украине, поговорю об Украине и я — но в аспекте литжурнальной прозы.
«Новый мир» в 2011-ом году (в седьмом, десятом и двенадцатом номерах) печатал отрывки из книги Оксаны Забужко «Музей заброшенных секретов». Время вспомнить об этом. Кстати, я благодарен редакции «Нового мира» за то, что она публикует украинскую прозу. На фоне скудного выбора авторов, которых принято пускать в «Знамя» и (особенно) в «Октябрь», новомирская украинская проза — как дыхание свежего ветра. Оксану Забужко после Георгия Давыдова и Анатолия Наймана читать приятно, да и пишет она качественнее Давыдова с Найманом. Но я сейчас буду говорить не о качестве письма Оксаны Забужко, а о сюжетной логике её текста.
…Киевскую тележурналистку Дарину Гощинскую вызывает к себе в кабинет шеф (глава телеканала). Он говорит, что принято решение снять с эфира даринину аналитическую программу и вместо неё запустить девичий шоу-конкурс (Дарина будет его ведущей). Что ж, для масс-медиа дело обычное. Тут Дарину осеняет: не допущенных к конкурсу кандидаток-провинциалок станут направлять в бордели Европы! Никаких доказательств такого предположения у Дарины нема: Дарине кажется, что где девичий конкурс, там и «торговля живым товаром». Дарина бросает шефу своё гордое «нет!» — и на бумагу изливаются майонезные потоки негодования…
…Нашими дивчинами торгуют! Их уводят, как в Туретчину! Нашу Неньку-Украину распродают! Нашу светлую, словно слеза младенца, Батькивщину пустили по рукам! Как мы могли терпеть это! Как мы смели терпеть! Отчего мы не вышли на площадь! Какой позор! В наших архивах засели москали! Подлый москаль-гэбэшник Бухалов не допускает меня и моего бойфренда к архивам УПА! Бухалов ещё и брюнет — ужас, ужас, ужас! Смуглые брюнеты-сексисты-москали дискриминируют гарных блондинок-киевлянок! Русские мужики, напоминающие арабов, насилуют наших золотоглавых девственниц! К оружию, граждане!
…Одна страница, вторая, третья, пятая, десятая, двадцатая — и всё в том же духе.
Ситуация, казалось бы, из «нравственно беспроигрышных» (торговля беззащитными девами). Такие штуки напрочь вырубают логику. Но я включу логику — и задумаюсь.
Положим, это шоу — впрямь прикрытие сутенёрских махинаций. Я не думаю, что у не прошедших конкурс глупышек злые дяди станут силой отбирать украинские паспорта прямо в телестудии. Поначалу в игру вступят не дяди, а тёти. Они будут ласковыми голосами заманивать девочек «на престижную работу в Европе» (паспорта у дурочек отберут — уже за границей). Одна хитрая тётя посоветует юной Наталке ехать за рубеж, а другая хитрая тётя (а именно тётя Дарина) убедит Наталку не ехать. Если об этом и узнают, тётю Дарину не уволят (она ж — «лицо телеканала»). Но тётя Дарина отказалась от шанса стать ведущей шоу. И оттого она не сможет убедить Наталку не ехать за рубеж. На месте тёти Дарины будет другая тётя, которая промолчит (и это — в лучшем случае). Итог: глупая Наталка поедет-таки за рубеж, а тётя Дарина станет гордиться собой.
А ведь киевские майданщики поступили «по логике тёти Дарины». До очередных выборов Президента Украины оставался год. Народу Украины надо было потерпеть годик — и выбрать Президента по своему вкусу (при таком раскладе следующим Президентом стал бы кто угодно, но точно не Янукович) — но где ж тут был бы повод гордиться собой?
Более всего в «майданной истории» меня бесит безответственность. Та безответственность, которой цивилизованный мир дал отмашку на безответственность. Это — не столько безответственность безответственных, сколько безответственность цивилизованного мира, попустительствующего безответственности безответственных. Это — безответственность взбесившейся этики, которой позволено попирать логику.
Российские гос-СМИ эксплуатируют тему «бандеровщины на Майдане»; сторонники Майдана твердят, что «на Майдане ведь были не только бандеровцы» — как будто десять гран цианистого калия в галлоне майонеза, лучше, чем десять гран кристаллического цианистого калия. Дело-то не в бандеровщине. Бандеровщина — вторичный симптом безответственности, бандеровщина — символ и признак безответственности. Демон постмодернистской безответственности воплотился-влез в бандеровщину — тем же способом, каким карамазовский чёрт мечтал воплотиться в семипудовую купчиху.
Кстати, о бандеровцах… возвращусь к сюжету книги Оксаны Забужко. Как было сказано выше, у тележурналистки Дарины Гощинской есть бойфренд — Адриан Ватаманюк. Адриану Ватаманюку чудится, что он вспоминает жизнь своего тёзки из прошлого — жизнь боевика УПА Адриана, которого после ранения направили лечиться в лес — в тайный схрон УПА. Там к Адриану пришла любовь — очаровательная партизанская юная медсестра по имени Рахиль.
Вы спросите: каким-таким образом среди бойцов УПА могла б завестись живая Рахиль? Оксана Забужко охотно ответит вам на это: вообще-то она считает, что бойцы УПА были главными спасителями украинских евреев.
Нет смысла произносить слова «правда» и «ложь», когда не определены исходные основания и методы мышления. Ведь Оксана Забужко не лжёт; она искренне любит УПА, она любит и евреев (не знаю, насколько искренно); поэтому Оксане Забужко очень хочется, чтобы УПА спасало евреев. А если очень хочется, тогда можно счесть, что всё так и было. Ведь нравственный порыв — это ж славно, не правда ли?! Ради нравственного порыва можно отключить собственную голову — вначале на секунду, а потом — окажется, что навсегда (когда мозги отключают на секунду, они отмирают навсегда).
И льётся в уши майонез Майдана, и бурным потоком струится навстречу ему нескончаемый патриотическо-конспирологический цементный телекисель, и тухло подтекает сбоку болотная дичь. И летят с экранов потоки сериально-сентиментальной галиматьи, сводящейся к чудовищным тезисам: «У неё же любовь — ей всё позволено!» или «У него же месть — ему всё позволено!». И всё это месиво — майонез, кисель, болото, телепатока — гниёт в бедных людских головах, превращаемых в помойные корыта.
Если что и развяжет третью мировую, то — сентиментализм и скверная привычка умиляться глупостью.
А теперь перенесёмся с бурной Украины в нашу (пока ещё) спокойную Россию.
Я думаю, что с Россией дело обстоит хуже, чем с Украиной. На Украине сейчас воюют «две Украины», две непримиримые социокультурные программы. Одну я называю «модерном», а другую — «постмодерном». На постсоветском пространстве «модерн» обречён быть советским (и мне хотелось, чтобы он был чуть менее советским), а «постмодерн» здесь не может не быть антисоветским (а я желаю, чтобы он был не слишком антисоветским: предельный антисоветизм ведёт к нацизму).
Но на Украине «модерн» и «постмодерн» разведены — географически, да уже и этнически. В этом — счастье для Украины. Рано или поздно «две Украины» расцепятся — при помощи России, Евросоюза, НАТО или без участия таковых — но оставят друг друга. Это будет лучшим выходом для Украины. У России же нет такого шанса: «две России» — растворены внутри России. «Украина донбасского модерна» и «Украина галицийского постмодерна» образуют взвесь, которую можно сепарировать на суверенные фракции. В России «модерн», и «постмодерн» могут быть переплетены не только внутри одной семьи, но даже внутри одной личности. «Горячая гражданская война» не даст России ни единого исхода; а «холодная гражданская война» у нас, между прочим, вполне себе началась.
Об этом — новый роман Виктора Ремизова «Воля вольная». Этот роман был опубликован в ноябрьском и в декабрьском номерах прошлогоднего «Нового мира» (в журнальном варианте — но я читал полный извод текста).
Виктор Ремизов — прозаик не только традиционный, но и сверхтрадиционный — разумный, расчётливый, обстоятельный, неторопливый, словно таёжный рыбак. Он любит подробные описания сибирской природы, он может построить на этих описаниях объёмную повесть — без единого сюжетного гвоздя. Когда же Виктор Ремизов берётся за сюжетику, он делает её мастеровито, точно и рационально — может быть, слишком рационально. В «Воле вольной» есть некоторые отголоски классицизма — «говорящие фамилии» персонажей, например. Это влияние советских канонов; Ремизов — советский по методам писатель; читаешь его, и вспоминаешь — если не Виктора Астафьева, то Андрея Скалона, по крайней мере.
В советские времена умели делать простые и надёжные вещи; в том числе, простую и надёжную прозу. В литературных методологиях, пришедших из советской культуры, нет рекламы, нет понтов — эти методологии, возможно, не очаруют, однако они вменяемы. Роман Виктора Ремизова социален и аналитичен — оптика советской прозы оптимальна для социальной аналитики: в эту оптику исходно встроена адекватность мышления.
…Началось всё с пустяка — начальник районной милиции подполковник Александр Тихий решил отметить на природе повышение по службе — на пару с замом майором Гнидюком. Мимо проезжал местный мужик Степан Кобяков (охотник, рыбак, водитель вездехода, перевозчик браконьерской икры и рыбы). Гнидюк полез в степанов вездеход (Тихий не смог удержать подчинённого) и разбушевался. Степан не стерпел, завязался конфликт с использованием оружия. По итогу пострадала лишь машина начальства — но Гнидюк, желающий воссесть на освобождающееся место шефа, стал слать сигналы наверх. Дело завершилось карательной акцией столичного ОМОНа и «точечным боевым актом» (был взорван вертолёт ОМОНа, погибли все находившиеся на борту).
Четырьмя десятилетиями раньше в смежных таёжных углах куражился подонок Гога Герцов, да совестливый абориген Аким выхаживал горожаночку Элю, брошенную Гогой. Собственно говоря, то был сигнал о глубинном расколе-надломе, надколовшем советское общество (позже сигнальщик — Виктор Астафьев — возненавидит совковых начальничков настолько, что в гневе побратается даже с литвождями из компании «других»).
Кстати, в романе Ремизова тоже имеет место быть «другой», маркированный всеми маркерами «другости». Горожанин. Москвич. Богач. Хозяин роскошной квартиры на Гоголевском бульваре. Банкир. К тому же, с подозрительным именем-фамилией — Илья Жебровский. Вот кому бы стать ответчиком за безобразия на сибирской земле.
Ан нет, Илью автор не порочит ни словом. Илья — хороший мужик (правда, в финале романа он струсил — но кто бы не струсил на его месте?). Просто Илья — чужой для здешнего жизнеустройства (он — свой для «нечеловеческой тайги», он способен выжить в ней, он сумел завалить страшного медведя-шатуна, но он — чужой для «человеческой тайги»). Илья понимает, что не хочет (и не сможет) участвовать в разгорающейся гражданской войне; он уезжает (не только из тайги, но и из России). Что ж, его выбор, его воля вольная. В ремизовском романе есть ещё «другой» — Валентин Балабанов (Балабан), бывший участник боевых действий в Чечне, бывший рок-певец, а ныне — алкаш, бич (хоть опустившийся, но всё ж интеллигент). Именно он жертвенно взорвёт вертолёт с карателями из ОМОНа. Мне показалось, что Жебровский и Балабан — две раздельные схемы одного и того же образа («в проекции реализма» и «в проекции романтизма»). Вообще Балабанов — самый условный герой наиреалистичнейшего повествования Ремизова; он пришёл из кино, поэтому у него «режиссёрская фамилия».
Виктору Ремизову ненавистны ни «другие», ни москвичи или (и) интеллигенты, ни Жебровские и Балабановы; ему ненавистны «люди середины», нахватавшиеся суетных иерархических статусов. Подлый, трусливый и глупый майор Гнидюк, осатаневший от безнаказанности ОМОН — именно в гнилой серединке корень зла. Прекрасны «свои», неплохи «другие». Омерзительны «свои», глумящиеся над «своими» с жалких высоток собственной властности. И потому омерзительна власть.
В романе Ремизова постоянно идёт речь о назревающей войне между «ментами» и «мужиками». Не всё просто и с «ментами», и с «мужиками» — среди «ментов» есть ребята нормальные (подполковник Тихий) или, хотя бы, встроенные в «человеческую тайгу» (Васька Семихватский). Но подполковник Тихий, вдруг осознав, что он — враг народу, чужак, «мусор поганый» — умрёт от потрясения. А Васька — «мент» для «мужиков», но для ОМОНа он — такое же «зверьё двуногое», как и Стёпка Кобяк. Что касается «мужиков»… Виктор Ремизов с астафьевским умелым уважением выписывает нехитрую жизнь Стёпки Кобяка, Генки Милютина, дяди Саши, Кольки-поварёнка, деда Трофимыча — прекрасно понимая, что все эти люди — нарушители, браконьеры. Что поделать: Сибирь-матушка, закон-тайга, медведь-прокурор. Здесь граница между «народным» и «уголовным» столь тонка, что её фактически нет. Вот Стёпка Кобяк бегло заметил: «Кобяковы одними из первых пришли на Охотский берег… Сколько здесь дедов моих лежит?!». По какому закону жить Стёпке — по «закону тайги» или по «закону власти»? Власть, государство — не больше чем общественный договор. Если «власть» будут олицетворять прыщи-Гнидюки или столичные отморозки… Тогда из государства утечёт легитимность общественного договора, словно вода из треснувшего кувшина, и вся наша вертикаль власти посыплется (притом даже без участия «Запада» и «пятой колонны»). Умные-разумные «другие» (Жебровские и Балабановы) — ничего не спасут: судя по ремизовскому тексту, горький выбор «других» — либо валить за кордон, либо воевать с собственным государством.
Виктор Ремизов показал нам — нет, не русский бунт, а, всего лишь, русский ропот. А также русский правёж — неизменно следующий за русским ропотом. Этого достаточно.
«Воля вольная» — замечательный роман; он достоин литературной награды. Вряд ли он выйдёт на «Большую книгу»: всё же «Большая книга» — государственная премия, а у «Вольной воли» не вполне государственнический вектор. Однако «Букер» — самое оно. У меня лёгкая рука на букеровские прогнозы — два года кряду я предсказываю «Букера» — сначала я посулил его плохому роману Андрея Дмитриева, затем — хорошему роману Андрея Волоса. Оба раза у меня сбылось. Пускай же сбудется на третий раз; пусть «Букер» в этом году достанется Виктору Ремизову.
Бог троицу любит.
А сейчас я наконец-то перейду от надоевшей публицистики к своему любимому занятию — к стиховедению.
Вышел сборник стихов молодого поэта Бориса Кутенкова «Неразрешённые вещи» (Екатеринбург — Нью-Йорк: изд-во «Евдокия», 2014).
Борис Кутенков вошёл в цеховую среду «современных профессиональных поэтов»; он пишет стихи в соответствии с предписаниями «актуальной поэзии» — что нелегко: корпорация «актуальных поэтов» узка и замкнута. Законы игры в «актуальную поэзию» по своей сложности уже сопоставимы с канонами сотворения висы или маккама. Цель игры — написать стихотворение так, чтобы оно было бы максимально красивым, в меру осмысленным, в меру лиричным, и при этом давало нам минимум информации об авторе и об окружающем его мире. Борис Кутенков пишет лучшие стихи, какие возможны при соблюдении правил «актуальной поэзии». Его стихи хороши (правила игры плохи).
Борис Кутенков наделён уникальным слухом на звучание и фактуру слов, на интонацию, на ритмику. Каждое слово в его стихах находится на отведённом ему звуковом месте; каждый — даже самый малый (в один слог) — перебив размера — оправдан и необходим.
Однако всё это — лишь форма, требующая содержания, заполнения, заливки, начинки. Борис Кутенков начиняет стихи мелко нашинкованной отвлечённой образностью. В них «плавятся вещи», друзья «говорят на гранатовом языке», «плывёт в родное море рыбица», проворачивается «в голове у пилота секретный ключик», крутится «мукомолка под левым ребром», туда-сюда шастают присяжные спасители поэтов — ангелы (в последнем стихотворении сборника является «ангел добрый руди»).
Собственно говоря, отвлечённая образность — достояние русской поэзии с символистских времён. Поэзию Пушкина возможно поверять мерками реализма; он неё можно требовать отражения некоей (эпической либо лирической) действительности. И поэзию Лермонтова можно мерить реальностью, даже поэзию Иннокентия Анненского можно, а поэзию Блока — уже нельзя. Задавать вопрос, что именно значат «рыбица» или «мукомолка» в стихах Кутенкова столь же беспардонно, как вопрошать, что именно значат «болотный попик» или «проклятый колокол» у Блока. Наверное, что-нибудь значат. Да нам не скажут.
Но дело в том, что каждый отвлечённый поэтический образ состоит из трёх составляющих — из того, что идёт от личности автора, из того, что идёт от общества и из того, что идёт от веяний современной автору поэзии. Чем больше в образе первой составляющей и чем меньше последней, тем образ ценней. Иногда один и тот же образ в творчестве разных поэтов различен по цене. Начинающий Сергей Бобров выслал в письме к мэтру Андрею Белому свой опус с двустишием «пойду — и про Белую Даму стихи просвищу — прозвеня». У Блока — «Прекрасная Дама», и у Боброва — «Белая Дама»; но к Блоку «Дама» пришла от Блока, а к Боброву — от Блока тоже. Потому-то Бобров преспокойно заменил «Белую Даму» на «пустынную дамбу» в исправленном варианте.
Когда я читаю стихи Бориса Кутенкова, мне кажется, что в их образах слишком мала составляющая «от себя» и чересчур велика составляющая «от (не своей) поэзии». Доказать я это не могу (сие недоказуемо). Мне так кажется — и всё тут.
Вот пример наитипичнейшей строфы Кутенкова…
Не успеешь проснуться — пустеешь внутри:
стены новые, город удельный.
Только розовый свет огнестрельной зари,
только розовый свет огнестрельный.
Пропоёт пустельга из тюрьмы золотой
про равенну, разлуку, расплату.
Страшно знать, что сейчас, но страшнее — потом.
Страшно жить. Поскорей бы заплакать.
Не умея меж тем ни того, ни того,
поздно сетовать, поздно учиться.
Оттого-то хибара тебе — не амвон,
и безвольная плеть — не десница.
(«Не успеешь проснуться — пустеешь внутри…»).
Тут загвоздка не в «сложности»; мне ль бояться поэтической сложности? Я позднего Осипа Мандельштама читаю — и понимаю его. Кутенкова я понимаю похуже. Поразительные, дичайшие, не сообразные ни с чем образы «Стихов о неизвестном солдате» пришли от живого мироздания вовне автора и от автора (пускай даже — от безумия автора). А кутенковская «пустельга» — не чета мандельштамовской «ласточке хилой». Она возникла… мне кажется, потому что Бахыт Кенжеев когда-то написал — не это, но что-то подобное, и ещё потому что тридцать поэтов повторили за ним — не это, но что-то подобное подобному. К слову, в мелосе Кутенкова, как в песне щеглёнка, то и дело слышатся «чужие звуки» — то Кенжеев, то Гандлевский, то Ольга Седакова, то Борис Рыжий. Голос Кутенкова — сильный, уверенный, но невольно переимчивый.
Лучшие стихи в «Неразрешённых вещах» — те, в которых просматривается лирический герой («экзамен проваливший центровой…» из цикла «Трамвайные голоса») или нащупывается внятный сюжет («Санитар»). Я рекомендую Кутенкову уходить от отвлечённой образности и не бояться собственного «Я». Между прочим, «Я» в его поэзии (всё-таки) есть — хоть и сковано «правилами игры в актуальную поэзию».
Это присутствие «Я» позволяет надеяться на то, что Борис Кутенков станет очень большим поэтом.
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
- Франция понесла первые потери в войне с Ираном
- США разрешили российскую нефть
- Охранница в Хабаровске пыталась расстрелять офис
- Подземные толчки сотрясли Турцию
- Дроны ВСУ атаковали Адыгею
- Стало известно, когда в России змеи выйдут из спячки
- Минфин США выдал траты на войну с Ираном
- Трагедия под Астраханью: женщина с двумя детьми погибли в пожаре
- НАТО пригрозило всем помощникам Ирана
- Флот США открыл огонь по иранскому судну, но не попал