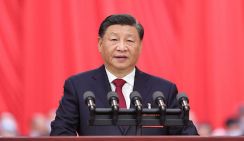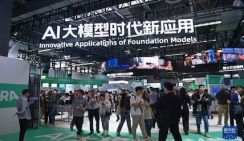«Трамп — марионетка, которая должна подписывать указы и выполнять команды...»
Валентин Катасонов
«Трамп — марионетка, которая должна подписывать указы и выполнять команды...»
Валентин Катасонов
- «Спартак» направит в РФС жалобу на судейство в матче с «Зенитом»
- «Остановись и вспомни, кем ты был»: экс-президент Украины обратился к Орбану
- Ученые назвали черту характера, из-за которой алкоголики чаще срываются после лечения
- Кардиолог назвала режим питания и продукты, необходимые сердечно-сосудистой системе
- Лукашенко пригрозил отправить главу Минсельхоза Белоруссии в штурмовики
- Минобороны сообщило о массированном ударе по энергетике и ВПК Украины
- МВД предупредило о новой схеме мошенников с «секретными чатами»
- Орбан: Венгрия не будет колонией Украины и не поддастся на шантаж Зеленского
Общество мертвых бардов
С такими песнями страна не могла уцелеть
Часть 1
В России нужно обсуждать песни. Они важнее статей, книг и кино. Всё это проваливается куда-то в нижние этажи памяти, всплывая отдельными строками или кадрами, а песня живёт в душе, навек с нею соединившись.
Сегодня, пережив колоссальную катастрофу, мы не можем не вглядываться в явление, которое называется авторской песней. Эта песня стала галактикой, наполненной сотнями звёзд. Она формировала сознание и потому ответственна за очень и очень многое.
С определением «бард» все запутались. А между тем, оно лежит на поверхности. Бард — это поэт с гитарой, чья правда изливается в мир и находит в нём мировоззренческий отклик. Это тот, кто внушает.
Бард — это гордо звучащее «я», имеющее право на утверждение истины. И потому песня барда — это всегда эмоциональный гипноз. Всё остальное, как бы ни бередило душу, это шансон. Это слюни и сопли поэзии, где звуки гитары предназначены для того, чтобы создать настроение. Весёлое или сугубо меланхолическое.
Шансонье купается в благодушии. Он хочет понравиться всем, и это его принципиально отличает от барда. Бард чихать хотел на всеобщее, потому что в этом «всеобщем» есть что-то глубоко ему ненавистное. Он это атакует и стремится избыть. Он смеётся над этим, бросает ему обвинения и утверждает иное.
Бард прекрасно осознаёт, что множит не только поклонников, но и недругов. Он знает: кому-то его творчество будет весьма не по вкусу. Кто-то сквозь зубы всегда назовёт его сукой.
Авторская песня мощно стартовала в послевоенное время. Она расцвела в шестидесятые, которые без песни вообще представить нельзя. В эту уникальную пору поэты с гитарами звучали согласно. Они выглядели как нечто единое.
Но вскоре авторская песня стала раздваиваться. А вслед за ней стала раздваиваться её великая аудитория, определяя свои предпочтения и идя за теми, кто ближе. Барды не выясняли между собой отношения, но уже становились антагонистами. Их песни начинали сражаться. И в какой-то момент побеждать стало нечто тёмное, поднимающееся из глубины и разбухающее до огромных масштабов.
В семидесятые годы от бардовских шлягеров повеяло чем-то сторонним, а подчас и откровенно похабным. Что-то чуждое проявилось в творчестве поэтов с гитарами — мелочное, самодовольное и бесконечно эгоистичное. Это уловил Анчаров, открывший жанр авторской песни, и его одиночество весьма не случайно. Это уловил Высоцкий, которого стало раздражать слово «бард». Не желал он быть в этом ряду. Ему была явно неприятна лукавая бархатная интонация, охмуряющая слушателя, его задевал ядовитый смешок, сбивающий «пафос» и принижающий всё героическое. Он явным образом чувствовал в этом какую-то фундаментальную фальшь и измену.
Анчаров и Высоцкий не могли даже предположить, во что это выльется. Но мы-то увидели. Мы увидели вселенский позор авторской песни, которая, атакуя советское под флагами человечности, не отозвалась на трагедию девяностых и, обласканная властями, захваленная журналистами, выродилась у всех на глазах. Мы увидели, как барды предали свой гуманистический идеал и сели по ресторанам, «тиская песню, как шлюху в порту».
Так что же произошло? Что наполнило космос авторской песни чёрными дырами бравирующей пустоты?
Мы обязаны разобраться. Ради тех, кого унесла из жизни волна инферно, и ради своих детей. Иначе всё повторится — полыхнувший «неизвестно откуда» огонь отрицания уничтожит здесь уже всё.
Давайте вглядимся в почтенных бардов, за которыми влачится толпа подражателей. Эти люди не бесы, не враги рода людского. Они вежливы, милы, эрудированны. Они щедро одарены, а иногда — гениальны. Просто их мировоззрение творило поэзию, которая накачивала общество гнилью.
Романс на обочине
Его творчество родилось как паскудство.
Поначалу это было даже талантливо. В песне «О графе Толстом, мужике непростом» есть весёлые строки.
«Жил-был великий писатель —
Лев Николаич Толстой,
Мяса и рыбы не кушал,
Ходил по именью босой…
Но Софья Андреевна Толстая
Совсем не такая была,
И, рукопись мужа листая,
Говядины много жрала".
Не бездарен и «Батальонный разведчик» — слёзный романс, сразу подхваченный попрошайками и ставший частью уличных звуков.
«Болит мой осколок железа
И режет пузырь мочевой,
Полез под кровать за протезом,
А там — писаришка штабной!
Штабного я бил в белы груди,
Сшибая с грудей ордена…
Ой, люди, ой, русские люди,
Родная моя сторона!"
Эти песни, написанные Алексеем Охрименко с друзьями, отпевали сталинскую эпоху. Что-то рвалось из-под её глубоких снегов. Какое-то странное зубоскальство и тяга к юродству — к выставлению своего убожества на продажу и спекуляции на сострадании. Природу этой творческой стихии тогда, в послевоенные годы, не понял никто, потому что не особенно вглядывался. Это было нечто, существующее на культурной обочине, и заслонённое великой трагедией закончившейся войны.
В среде писателей и поэтов было немало тех, кто приветствовал это маргинальное творчество, видимо, полагая его весёлым разбегом, после которого произойдёт взлёт. Автор, проявивший талант, оставит позади все эти «ошибки юности» и рванёт ввысь, к подлинной драме и истине. Так наверняка думал Олеша, слушавший Охрименко. Так думал Фатьянов, написавший песню, которая заставила плакать Сталина, — знаменитые «Соловьи».
Они просчитались. Никакого взлёта далее не последовало. Соратники Охрименко быстро исчерпали себя, а сам он вполне показал, к чему устремлён. В каждой новой песне зазвучало глумление. Он спел про Гамлета и Отелло, Шекспира и Ломоносова, Сцеволу и Ларошфуко. Все эти песни одинаково низки и расчётливо эпатажны. Это поэтический лубок, исполненный под гитару, вульгарный пересказ сюжетов и биографий, где всё приземляется и сводится с пьедестала. Это мгновения низкого торжества, какой-то уж совсем мелкой радости. Практически все песни вымучены — видно, что дарование иссякает, и в поисках ярких строк автор опускается до пошлятины.
Вот эти яркие строки, парящие над потоком очевидной банальности:
«Был Ларошфуко не воин,
Был он дипломат — орёл,
Либерально был настроен,
В бардаках всю жизнь провёл…».
В исполнении человека почтенного, который во времена «перестройки» дождался славы и собрал, наконец, полный зал, такая лирика звучит дико. Голос пожилого интеллигента абсолютно дисгармонирует с содержанием чисто очернительских шлягеров, и возникает неприятное чувство. Кажется, что поёт гадкий дедушка.
Кто-то скажет, что эти песни породил весёлый нрав автора. Но их явно породило другое — тщедушное «я», рвущееся к признанию и выбравшее приём, которым достичь этого легче всего.
Охрименко прожил долгую жизнь. Причём прожил её раздвоено: днём служа в советской газете и соответствуя, а вечером — осторожно выпадая из рамок. У него нет практически ничего, за что можно было бы поплатиться — сесть или оказаться на улице. Это такая особая революционность, за которую не наказывают. Есть бойкий стишок про Сталина, но он был надёжно спрятан от чужих глаз, и вынырнул очень вовремя. Вся остальная лирика не касается власти, и поэтому «за рупь за двадцать» автора не возьмёшь. За что наказывать? За вульгарность? За стрельбу по культурным символам? Нету такой статьи.
В отличие от Вийона, своего очевидного вдохновителя, Охрименко не сгорел во грехе, а оказался умерен. Его личная война была войной против всего, что находится выше. Идя в атаку на памятники, он ни разу не предъявил собственные символы веры. Похоже, что их попросту не было, и именно это порождало его раздражение.
На склоне лет Охрименко сотворил краткий дразнящий цикл «Алкаши идут, алкаши». В этот период жизни он словно ищет истину на дне стакана, зная, что там её нет. Это сильная, восклицающая поэзия, поражающая своей безнадёжностью, своим гаснущим светом. Это его реквием.
«Мой прах снеся на кладбище,
Друзья надо мной провоют,
А после, зайдя в жилище,
Глотки свои промоют…
Надо считаться с фактом
И не кичиться культом —
Сильный убит инфарктом,
Мудрый сражён инсультом.
Очень уж безобразна
Жизни и смерти драка —
Труса сглодает язва,
Храбрый умрёт от рака.
А я вот от алкоголя,
От синего самогона…
Твоя, о Господи, воля,
Твоя святая икона!"
Логика творчества привела Охрименко к абсолютному мраку — к констатации ужаса жизни как таковой. И невозможно не видеть, что это желанный вывод. Бард просто упивается собственным отчаянием, собственным пессимизмом. Ему мила его обречённая поза. Ему сладка его песня на краю пропасти. Не будучи безбашенным маргиналом, он хорошо понимает: надежда, вера и восхождение… — всё это пресно, скучно, накладно. Это не в почёте у тонкой, понимающей публики. Это поляна, на которой пасётся официоз. У него другой путь — петляющий по обочине. У него абсолютно иная нота. На краю, со стаканом и обожжённой глоткой — только так, только рисуя себя таким, он может окончательно оттопыриться и создать то, что запомнят. Охрименко даром не нужны ни свет, ни надежда. Мрак и отчаяние, приближение к бездне, вот что творит его закатную песню.
И только под самый занавес с бардом что-то произошло. Словно взгляд в бездну потряс его душу. Неожиданно тремя грустными четверостишиями из певца вырвалось что-то подлинное. Прозвучали камерные ноты, лишённые привычного позёрства и эпатажа — ноты сочувствия и непридуманной человеческой драмы, от которой он всю жизнь бежал.
«Ещё мужчины оборачиваются,
В какую сторону не шли,
А дни летят и укорачиваются,
Как в дальнем небе журавли.
Дублёнка петухами вышита,
Копна волос, задорный взгляд,
А жизнь и прожита, и выжата,
И горько посмотреть назад.
Ещё гуляет до рассвета
И руки к чьей-то льнут груди,
Но это — просто бабье лето,
И только осень впереди".
Продолжение следует…
Фото: ИТАР-ТАСС.
- Тренер «Сочи» остался недоволен судейством в матче с «Краснодаром»
- В РФ в работе Telegram зафиксирован новый крупный сбой
- Тренер «Краснодара» назвал «заслуженной» победу над «Сочи»
- В Иране назвали Украину законной целью для атак республики
- «Спартак» направит в РФС жалобу на судейство в матче с «Зенитом»
- «Зенит» победил «Спартак» благодаря двум пенальти
- Зеленский заявил, что он «не самый любимый сын» Трампа
- Орбан: Венгрия не будет колонией Украины и не поддастся на шантаж Зеленского
- Ученые назвали черту характера, из-за которой алкоголики чаще срываются после лечения
- Подросток без прав устроил ДТП в центре Челябинска, есть пострадавший