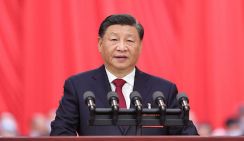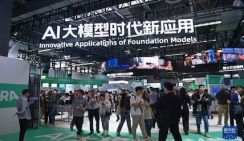«До 2030 года убудет до трети нашего авиапарка. Выход — это сокращение авиаперевозок…»
Андрей Патраков
«До 2030 года убудет до трети нашего авиапарка. Выход — это сокращение авиаперевозок…»
Андрей Патраков
- Джей Ди Вэнс: Я, пожалуй, сыт по горло политикой
- Путин поставил кабмину важную задачу, связанную с поставками энергоресурсов на рынок ЕС
- Ликвидирован герой Украины Александр Довгач
- Путин заявил о новой ценовой реальности в сфере нефти и газа
- Стало известно, куда Абрамович хочет направить деньги от продажи «Челси»
- Трамп: Австралии нужно предоставить футбольной сборной Ирана убежище, иначе игроков убьют
- DeepState: Россияне расширяют зону контроля в украинском приграничье
- В администрации Эрдогана ничего не слышали о переговорах по Украине 11 марта
«Эльзас наш»
Русским есть чему поучиться у европейцев в деле воссоединения нации
Почти полвека в центре Парижа стояла статуя, заваленная венками и закрытая темной драпировкой и французскими флагами. Это была фигура женщины c надписью «Страсбург» на постаменте — одна из восьми статуй, установленных по углам Площади согласия и олицетворяющих восемь главных французских городов. В 1871 году в результате Франко-прусской войны Страсбург, вместе с частью Лотарингии и Эльзасом, чьим административным центром он является, отошел к Германии. С тех пор и до 1918 года, когда Эльзас-Лотарингия по итогам Первой мировой войны вновь вошел в состав Франции, парижане несли к статуе Страсбурга венки и устраивали рядом с ней патриотические демонстрации.
Десятилетие шло за десятилетием, но французская нация не хотела смириться и забыть о регионе, который она считала своей отторгнутой частью, своим «естественным» продолжением, упирающимся в левый берег Рейна. В разных французских городах всё новые улицы и площади назывались в честь Эльзаса и Лотарингии. Оккупированные немцами «восточные бастионы» Франции, как назвал их в одном из своих романов писатель Морис Баррес, сам уроженец Лотарингии и яростный борец за возвращение региона, стали навязчивой идеей французов. И французы не успокоились, пока не получили Эльзас и Лотарингию обратно.
«Там, где почва перемешана с прахом наших убитых, наше сердце заставляет нас думать о великой судьбе Франции и налагает на нас морального узы единства», — такими словами Баррес в 1899 году описывал перед членами националистической Лиги Французского Отечества свои чувства при посещении кладбища французских солдат в оккупированной Лотарингии. Если бы у русских был свой Баррес, то он мог бы сказать что-то похожее про ставший в одночасье частью чужого государства Крым, где покоятся тысячи русских солдат, погибших во время Крымской войны и Великой Отечественной.
Но все эти годы у русской нации, от которой в 1991-м отсекли более 20 миллионов соотечественников, не было своего Барреса, а если бы он появился, то давно бы сидел в тюрьме по статье 282 УК РФ. Русских убеждали в том, что они живут в «многонациональной стране» и что разговоры о праве нации на самоопределение, по ту и по эту сторону границы, недопустимы. Естественный для стагнирующей посткоммунистической страны запрос на реваншистский национализм был подавлен в зародыше — и если бы в Москве стоял памятник Севастополю, то у его постамента не лежало бы и букетика.
Стоит ли удивляться, что весной 2014 года мы не увидели на улицах миллионов, которые бы требовали возвращения отторгнутых русских территорий. Зато мы лицезрели свезенных на митинги сонных безразличных бюджетников, которым внезапно предъявили возвращенный Крым. Позвольте, но какое дело многонациональным россиянам до Крыма и до того, что он исконно русский?
Вопреки расхожему мнению, в возвращении Крыма и в событиях на Донбассе нет ничего аномального — наоборот, это совершенно нормальное явление в свете последних 200 лет европейской истории. Аномалия состоит в том, что «русская карта» за пределами российских границ теми стала разыгрываться людьми, которые сделали всё, чтобы не дать разыграть ее в России. Телегу поставили впереди лошади — аморфная Российская Федерация, обломок империи, вдруг де-факто приступила к ирредентизму, который является посильной задачей лишь для национальных государств, распираемых изнутри националистической мобилизацией масс.
Европейский путь ирреденты
На карте континентальной Европы едва ли можно найти крупное государство, не занимавшееся в недавнем прошлом ирредентизмом. Причем за ирреденту европейцы брались вне зависимости от политического строя и от национального состава оспариваемой территории — главное, чтобы там присутствовала сколько-нибудь значительная община соотечественников. За Эльзас и Лотарингию боролась республиканская Франция, невзирая на то, что французы были в меньшинстве в этом германоязычном регионе. Королевство Италия с момента объединения в 1870-м всегда претендовало на итальянские города Адриатического побережья, и, хотя Муссолини много сделал в этом направлении, борьба за итальянскую Адриатику началась задолго до прихода к власти фашистов.
За год до похода Муссолини на Рим, в 1921-м, Италия оккупировала Триест и Истрию, которые до Первой мировой принадлежали Австро-Венгрии, а позднее должны были стать частью Королевства сербов, хорватов и словенцев. Но еще в далеком 1882 году ирредентист Гульельмо Обердан покушался в Триесте на жизнь австрийского императора Франца Иосифа — и его не очень волновало, что добрую половину населения этого портового города, чьего воссоединения с Италией он добивался, составляли словенцы. Словенское население отнюдь не горело желанием оказаться в составе Италии — после того, как в 1915 году итальянцы вступила в войну на стороне Антанты против Австро-Венгрии, негодующие словенцы разбили в Триесте статую Джузеппе Верди и подожгли ряд итальянских клубов и редакций.
В Крыму и особенно в Донбассе этнический состав населения, судя по Всеукраинской переписи 2002 года, напоминает итальянскую Адриатику, какой она было до 1945 года. Русские, как когда-то итальянцы, сосредоточены в городах, где составляют в среднем половину населения или чуть меньше, а украинцы, как когда-то хорваты и словенцы, составляют подавляющее большинство в сельской местности. Так, в Донецке проживает 48% русских (украинцев — 47%), в Луганске — 47% русских (украинцев — 50%), однако за счет обширных украинских сельских районов процент русских в целом по Донецкой и Луганской областям ниже и равен 38% и 39% соответственно.
Единственное существенное отличие состоит в том, что городские жители Донбасса, считающие себя украинцами, русскоязычны, тогда как для славянского населения Триеста или Фиуме, еще одного ключевого порта на Адриатике, итальянский не был родным. Поэтому неудивительно, что пророссийские силы первоначально без труда основались в Краматорске и Славянске с 23% и 26% русского населения, а затем надежно зацепились за донецко-луганскую агломерацию. А вот в сельской местности ополченцы никогда не чувствовали себя уверенно — например, север Луганской области (Белокуракинский, Марковский, Новопсковский и Сватовский районы) вообще ни разу не попадал под контроль пророссийских активистов — в 2012 году здесь даже отказались придавать русскому языку статус регионального.
Итальянский Стрелков
Итальянские ирредентисты чувствовали себя в аграрных районах Адриатики еще менее уверенно, чем активисты «русской весны» — в какой-нибудь Шабельковке (так назывался поселок под Краматорском, где местные жители пытались прогнать ополченцев с блокпоста). Когда итальянский националист Габриэле д’Аннунцио, прототип Игоря Стрелкова, в 1919 году захватил югославский городок Фиуме (по-хорватски — Риека), итальянцев там было не больше 50% - остальное население состояло в основном из хорватов. Если же прибавить к этому практически чисто хорватский Суссак, восточный пригород Фиуме, и жителей близлежащих селений, то итальянцы там находились в явном меньшинстве. Но д’Аннунцио мог не беспокоиться, ведь он пришел в этот 50-тысячный портовый городишко (в два раза меньше, чем Славянск) с двумя тысячами добровольцев — на первых этапах Стрелкову с его отрядом из 50 человек пришлось куда тяжелее. Пока ополчение д’Аннунцио проходило через Истрию, расквартированные там итальянские части негласно снабдили его тяжелой артиллерией, танками и даже несколькими военными катерами.
Д’Аннунцио стал диктатором Фиуме, но в конце 1920 года Италия под нажимом международного сообщества силой вынудила его покинуть город, много месяцев находившийся в блокаде и под обстрелом. Наверно, Стрелков испытывал те же чувства, когда он покидал Славянск. Вообще два этих 40-летних любителя войны и славы быстро нашли бы общий язык. Д’Аннунцио был поэтом — Игорь Иванович тоже не чуждается литературного труда и даже пишет рыцарские романы.
В одном лишь, но зато в самом принципиальном вопросе, Д’Аннунцио не понял бы Стрелкова — зачем он пришел в русский Славянск, будучи противником русского национального государства? «Как построить „национальное“ государство на месте многовековой Российской Империи, в которой мирно жили и развивались сотни народов», — недоумевает Игорь Иванович в одном из своих текстов. При желании так можно было сказать и про Апеннинский полуостров — там жили пусть и не «сотни», но десятки народов, если пересчитать все национальные меньшинства. Но это не помешало Италии состояться в качестве национального государства — многочисленные славяне в его пределах рассматривались итальянским истеблишментом как пришлые чужаки, invasori. Кстати, примерно так воспринимает украинская власть русских на своей территории — представитель МИД Украины назвал русское население диаспорой, противопоставив его украинской «коренной» нации.
И уж конечно националист д’Аннунцио, обрушивавшийся в своих выступлениях на «грязных сербских свинопасов», в отличие от Стрелкова, не был озабочен «дружбой народов». Итальянский поэт отлично понимал, кого он отправился защищать в Фиуме — д’Аннунцио действовал, пусть и вопреки официальным властям, от лица итальянской нации во имя этнических итальянцев и всех, кто был лоялен итальянской культуре. И когда Фиуме через четыре года всё же был оккупирован итальянским государством, там, как и по всей остальной Адриатике, отменили преподавание на хорватском языке и даже какое-то время запрещали давать новорожденным славянские имена. А как иначе? За «многонациональный» Фиуме воевать не было смысла, зачем тогда вообще было отбирать его у Югославии? Легионерам Д’Аннунцио был нужен итальянский Фиуме. Но какой Донбасс нужен Стрелкову?
Павел Губарев, соратник Стрелкова, не так давно заявил, что «русский национализм не имеет этнической составляющей», что это «национализм особый, национализм духа, большой вселенской цели». Но тогда военную экспедицию можно было с равным успехом снарядить не в русский Донбасс, а куда-нибудь в Сирию, или где там идет война за «вселенские цели». Очевидно, что русским в Донбассе и в Крыму угрожал медленный процесс украинизации. Сохранить этот регион русским в долгосрочной перспективе — вот единственная цель, которой хоть как-то можно оправдать всё, что там началось. Но вместо этого нам рассказывают о происках США, инструкторах НАТО и прочем «столкновении цивилизаций».
Русский же национализм воспринимается в Донбассе как незваный гость. Например, Александр Кофман, глава МИД ДНР, рассуждает о его «ущербности и недостойности», о том, что «надо воспитывать любовь к своей земле, но не к своей нации». Но позвольте, а кто мешал воспитывать любовь к земле Донбасса, когда она была в составе Украины? Когда французы в 1918 году изгнали из Эльзаса-Лотарингии 150−300 тысяч немцев (примерно 10% всего населения региона) и закрыли все немецкие школы, их почему-то не интересовала «любовь к земле» (в конце концов, эльзасские немцы тоже были патриотами своей малой Родины) — их интересовала лояльность к французской нации.
Очень долгий XIX век
Комментируя присоединение Крыма к России, госсекретарь США Джон Керри возмущенно воскликнул: «нельзя действовать в XXI веке методами XIX века, вторгаясь в другую страну на сфабрикованных основаниях». Действительно, не поздновато ли во втором десятилетии XXI века заниматься переделом границ, пока Франция, Италия, Германия и прочие европейские страны, забыв старые обиды, объединяются и совместно запускают космические зонды к далеким кометам? Может быть, и вправду пора сдать национализм в музей как старомодную причуду, которая выросла из наивного романтизма XIX века, с его эпическими операми и величавыми симфониями, со стилизациями «под народ», с мифическими «кровью и почвой»?
Проблема в том, что историческое время в разных регионах Земли течет с разной скоростью — кто-то только распрощался с феодализмом, кто-то давно живет в постиндустриальном обществе. Теоретики, не задумываясь об этой гетерохронии, уже неоднократно пытались похоронить национализм — и всякий раз безуспешно. Для Западной Европы ирредентизм и национализм действительно перестали быть актуальными — путем аннексий, депортаций и ассимиляции границы наций и государств в этом регионе давным-давно были приведены в соответствие. Поэтому, глядя на Западную Европу, в 1970-е и 1980-е леволиберальные интеллектуалы вроде Юргена Хабермаса уверенно рассуждали о «конце эпохи национализма» и грядущем торжестве «постнациональной идентичности».
Неприятным сюрпризом для теоретиков постнационализма был всплеск националистических настроений на Балканах и Восточной Европе в конце 1980-х — первой половине 1990-х. Сербия, Хорватия, Венгрия в это время начали заниматься ровно тем же самым, чем Италия и Германия «переболели» полвека назад. На пространства бывшего СССР националистический XIX век пришел еще с большим опозданием. И вот мы без всякой машины времени стали свидетелями до ужаса хрестоматийной национальной революции, как будто она сошла со страниц учебника по истории национализма. Баррикады, уличные бои, мученики, умирающие под национальными флагами, массовое исполнение гимнов, народ, свергающий диктатора — нет, это не Париж в июле 1830-го и не Берлин в марте 1848-го, это Киев в феврале 2014 года. И вот дремотная 40-милионная постсоветская страна стала стремительно превращаться в монолитную нацию, объединенную ненавистью к общему врагу. И врагом этим сделались мы.
Украинскому национализму нельзя противопоставить аморфный «антифашизм» и ностальгию по советскому прошлому, ему можно противопоставить лишь национализм русский — такой же воинственный и нетерпимый, родом из XIX века. Но пока массового русского национализма не будет в самой России, его не будет и за ее пределами. В свое время итальянский национализм без труда зажег своим огнем итальянскую диаспору в Австро-Венгрии. Даже в крохотном Фиуме еще в 1905 году существовал националистический студенческий кружок, выступавший за воссоединение с Италией. Что уж и говорить о Триесте — тамошних итальянских националистов вплоть до своей смерти в 1882 году поддерживал сам Джузеппе Гарибальди. А были ли до 2014 года хоть какие-нибудь русские националисты в Донбассе, и у кого в России им было искать поддержки? Можно вспомнить разве что о движении «Донецкая республика», немногочисленные активисты которого курировались Евразийским союзом молодежи и ездили в молодежный лагерь на Селигер. Но какие уроки они оттуда могли вынести?
* * *
Когда Франция и Германия в 1992 году подписывали Маастрихтский договор, положивший начало Европейскому союзу, этим странам было уже нечего делить, в Эльзасе и Лотарингии по-немецки к тому времени говорили разве что глубокие старики. Возможно, лет через 50 или 70, когда Россия и Украина подпишут договор в рамках какого-нибудь «Восточнославянского партнерства», события в Крыму и в Донбассе будут восприниматься так же, как разгром под Седаном и Верденская мясорубка — как дела давно минувших дней. Но пока размежевание не закончено, язык национализма будет оставаться единственным средством общения на постсоветском пространстве. На Украине это уже поняли, в России — еще нет. Поэтому присоединение Крыма и война в Донбассе стали грандиозным фальстартом — странным спектаклем, в котором главную роль, отведенную русскому национализму, играют совсем другие действующие лица…
Фото: EPA/TASS
- «Спартак» одержал волевую победу над «Акроном»
- Бригадный генерал КСИР рассказал, сколько лет Иран готов воевать с США
- Стало известно, куда Абрамович хочет направить деньги от продажи «Челси»
- В администрации Эрдогана ничего не слышали о переговорах по Украине 11 марта
- Президент Мексики: США стоит снизить спрос на наркотики у себя
- Путин поставил кабмину важную задачу, связанную с поставками энергоресурсов на рынок ЕС
- Путин заявил о новой ценовой реальности в сфере нефти и газа
- «Локомотив» ушел от поражения в матче с «Ахматом»
- Джей Ди Вэнс: Я, пожалуй, сыт по горло политикой
- Ликвидирован герой Украины Александр Довгач