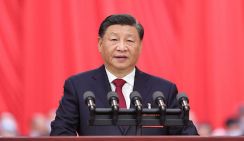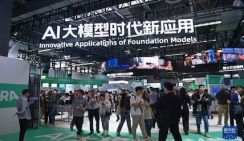«Застройщики клянчат господдержку — даже те, финансовое положение которых устойчиво...»
Татьяна Куликова
«Застройщики клянчат господдержку — даже те, финансовое положение которых устойчиво...»
Татьяна Куликова
- Зеленский впал в ярость: названа причина
- Выяснилось, какие страны смогут пережить ядерную войну
- Названы самые популярные в России языки после русского
- Пезешкиан попросил у Путина поддержки
- Начался массовый исход эскортниц из Дубая
- В Ираке горят нефтяные предприятия США
- Взрывы прогремели в Дубае и Манаме
- Под освобожденным Графским найден подземный город ВСУ
Четыре раза по десять
Захар Прилепин о лучших романах «нулевых»
Отступив на год от «нулевых», можно позволить себе подвести некоторые — исключительно мои личные — итоги, касающиеся русской словесности.
Потому что, знаете, но нет ничего приятней, чем говорить о любимых книгах.
Вдвойне приятно навязать какому-нибудь хорошему человеку прочтение тех сочинений, что уже полюбились тебе. Потом увидеть, что ему понравилось прочитанное — и тут как следует порадоваться уже в компании — и за свой прекрасный вкус, и за понятливость своего знакомого (или не знакомого). И, кстати, за сочинителя — он тоже слегка причастен к празднику.
Понятно, что я огорчу нескольких своих собратьев по ремеслу и какое-то количество недругов, не назвав их здесь.
В отместку они могут составить свой список и проигнорировать меня.
Тем более, что всех и назвать не удастся. Здесь, к примеру, осмысленно не ведётся речь о почитаемых мной мастерах старшего поколения, которых я, безусловно, ценю и люблю.
Речь пойдёт о тех литераторах, что либо заявились в «нулевые», либо написали в эти годы самые важные свои книги. И желанье ещё раз упомянуть те сочинения, что даровали мне радость — много сильней моих опасений обидеть хороших или не очень хороших людей.
Итак, вкратце.
ЧАСТЬ I. КРУПНАЯ ФОРМА
Алексей Иванов: «Блудо и МУДО» («Азбука-классика», 2007).
Насколько я могу судить, Иванов обиделся.
Реакция на его крайний роман оказалась не самой благодушной. Вдруг выяснилось, что российское общество то ли заражено ханжеством, то ли у него проблемы с чувством юмора, то ли ещё не знаю что.
В итоге, самый умный — и самый остроумный текст Иванова, или не прочли те, кому стоило бы прочесть его, или читали те, кому вообще ничего читать не стоит.
Несколько раз мы заговаривали на эту тему с критиком Львом Данилкиным и писателем Леонидом Юзефовичем — и они тоже не поняли, отчего так случилось. Они тоже думают, что это лучший роман Иванова.
Втайне признаюсь, что я не испытываю излишне тёплых чувств к роману «Географ глобус пропил» — ну, роман и роман, хороший. «Золото бунта» — другой разговор, величественная вещь. А это вот «Блудо…» — так просто легло на душу, и лежит там.
Мы ещё полюбим Моржова (так звучит фамилия главного героя). Мы ещё поговорим о нём. Мы ещё подружимся с ним.
Иванов, повторяю, тем временем, обиделся и лет пять уже не пишет романов. То занимался какой-то (Алексей, простите) ерундой с Парфёновым, то засел за историю Пугачёвского бунта — я уже отчаялся её ждать. Но вообще лучше бы роман о Пугачёве написал бы. Пушкин, кстати, именно так и сделал.
Александр Кузнецов-Тулянин: «Язычник» («Терра», 2006).
Самый недооценённый роман десятилетия. Книжка, которую, ни минуты не сомневаясь, можно поместить в любые святцы русской литературы.
Если «Блудо и МУДО» прочитали как роман про похоть, то «Язычника» не прочитали вообще, посчитав, наверное, что там какое-то скудное по мысли фэнтези про язычников и звероватых, но красивых и очень сильных славян века примерно III или V-го.
На самом деле, это самая сильная книга о современности. Современность отлично удалось рассмотреть, разместив романное действие на Сахалине. Вся наша Родина, как Сахалин — полуостров на краю света, где живут люди, которые, кажется, когда-то были красивыми и сильными, а теперь дичают на глазах.
Текст густой, архитектура безупречная, характеры — просто ох какие. Впечатление было, как будто Шолохова читаю — всё клокотало внутри: это живое, это истинное, это как хлеб с солью.
Рассказы у Кузнецова-Тулянина (какая, всё-таки, длинная и тягостная фамилия — будто невод вытягиваешь, пока её произносишь) тоже хорошие, хотя не настолько как «Язычник».
Что до нового, ещё не опубликованного романа — «Идиот нашего времени» — то я прочёл первую главу и ужасно разозлился, о чём Кузнецову-Тулянину написал — мы с ним, кстати, не знакомы. И название мне показалось ужасно претенциозным, и все герои новой книги вызвали тоску какую-то — там честные журналисты и ещё журналисты, которые продаются «олигархам», и тому подобные реалии, о которых почему-то очень любят писать наши почвенники, хотя сами толком, как мне кажется, ни олигархов этих не видели, ни в новой журналистике не работали.
А журналистика — это вообще чушь собачья, о ней не то что романов писать — о ней и говорить не стоит.
Михаил Гиголашвили: «Чёртово колесо» («Ад Маргинем Пресс», 2009).
Романы сегодня пишут в основном с линейным сюжетом.
Иванов вышел из дома и пошёл. Шёл, шёл и умер.
Или Сидорова была несчастна. Несчастна, несчастна, а потом прошло.
В лучшем случае, могут запустить две параллельные сюжетные линии. Иванов вышел из дома, а Сидорова была несчастна. То есть, пишутся две повести, потом они тасуются — и получается типа как постмодернистский замысел, но вообще это две повести, и не более того.
Так как сочинял свои романы Достоевский — сегодня почти никто уже не умеет: когда событий и героев огромное множество, когда роман создаёт ощущение огромного многоголосья, и автор помнит обо всех и о каждом. И когда в этом многоголосье вдруг возникает главная тема — и она, как в лучшей, классической музыке, — вдруг разворачивает паруса, и выносит роман на такие просторы, что…
После Достоевского архитектурно мог работать на том же уровне только Леонид Леонов — недаром «Пирамиду» называют последним романом Серебряного века. Кто сегодня рискнёт взяться за такой труд? Сегодня и читать-то такое бояться.
Короче, я веду к тому, что отныне грузины учат нас, как делаются классические русские романы.
У Гиголашвили, безусловно, не роман идей, а роман страстей — но страсти настоящие, эпоха разрезана как яблоко на дольки, вереница героев зрима настолько, что их можно рассадить на стулья в той комнате, где ты читаешь роман, и время от времени посматривать на них.
Впрочем, чтоб русским авторам совсем уж не впасть в хандру, надо пояснить, что Гиголошвили преподаёт русскую литературу в каком-то немецком университете, — так что, в принципе он понимал, что делал, когда сочинял «Чёртово колесо».
К тому же Грузия в этом романе, ну, не самая привлекательная земля из возможных.
Но роман всё равно очень сильный, сюжет так работает лопастями, что — не подплывай близко, больно стукнет по хребтине.
И вот ещё что скажу напоследок. Как-то мне встретились два замечательных грузина, с которыми мы выпивали. И они мне стали задвигать, что Гиголошвили и не грузин вовсе, а армянин.
Это хороший показатель. Так бывает время от времени, мы в курсе. Гиголошвили не грузин. Шолохов не писал «Тихий Дон». Хемингуэй не был на войне.
Всё как полагается.
Могу только поздравить Гиголошвили в связи с этим.
Владимир «Адольфыч» Нестеренко: «Огненное погребение» («Ад Маргинем», 2008).
Самые сочные криминальные штуки в русской литературе придуманы почему-то в хохляцкой земле. Беня Крик и два романа (или киноромана?) Нестеренко — «Чужая» и «Огненное погребение».
Нет, у Адольфыча никакой этой одесской романтики нету — Нестеренко вообще позиционирует себя (в ЖЖ), как «стихийный жидоед», — да и работает он сугубо в жанре мрачного реализма. Собственно, почему мрачного — просто реализма; а то, что в воровской жизни очень мало весёлого — что ж тут поделаешь.
Сам автор был участником криминальных бригад, сидел в тюрьме, был в розыске, до сих пор не открывает своё лицо (на программе «Школа злословия», например, он сидел в маске) — хотя, кстати сказать, мы с ним знакомы, и я за три бутылки пива могу дать словесный портрет Адольфыча.
Он такой крупный, колоритный, глаза слегка навыкате, очень убедительный в общении хохол. Взгляд поймать сложно — смотрит почти всегда мимо, в сторону. Большие спокойные руки, вполне тактичный и остроумный. С удовольствием смеётся, если смешно. Если не смешно — не смеётся.
Пиво с вас.
Собственно, я описал его лишь для того, чтоб сказать: на свою прозу он вполне похож. Я специально пошёл на него посмотреть, чтоб убедиться в этом.
Знаете, бывает так — читаешь прозу, и думаешь: какой мощный тип пишет. Потом встречаешь этого типа и понимаешь, что парень красиво гонит.
С Нестеренко всё в порядке.
По крайней мере, мне, как инженеру человеческих душ, так показалось.
«Чужую» уже экранизировали, и, на мой вкус, удачно. «Огненное погребение» ещё нет, а надо бы.
Если вы думаете, что там про криминал и всякие грабежи с убийствами — вы, конечно, угадали.
Но вообще это про гражданскую войну, про смерть и про любовь — от человека, который вроде бы кое-что про это понял.
Я буду читать каждую книгу Адольфыча точно. Вот только он их, похоже, не пишет больше.
Михаил Шишкин: «Письмовник» («АСТ», 2010).
В самом высоком смысле — рукотворный роман. Сотканный с необычайным тщанием и мастерством, которое иногда именуют волшебством.
Самый, опять же, в наилучшем смысле, простой роман Шишкина. Традиционная форма — роман в письмах и прозрачный сюжет: он и она, и времена.
Ощущение от романа сейчас постараюсь описать. Знаете, вот лежат письма, оставленные кем-то. И вот идёт дождь, и падает на бумагу одна капля, вторая, третья… И вот уже буквы поплыли, и целые фразы начали терять очертания…
У Шишкина такое же ощущение от времени. Сначала время очевидно — вот началась разлука, вот прошёл день, вот прошла неделя, вот прошёл месяц… А потом упала одна капля, упала вторая. И вот уже время расплывается, эпоха теряет границы, и средневековье наплывает на будущее, а будущее откатывается в позапрошлый век.
А они всё пишут и пишут друг другу письма — растерявшиеся во временах, и забывшие есть ли адресат, был ли он когда-нибудь.
Александр Гаррос и Алексей Евдокимов: «Голово<ломка>» («Лимбус Пресс», 2003).
Права на экранизацию этой книги покупались — но фильма так и не появился.
Права на перевод романа приобрели в большинстве европейских стран — но вышла книгой «Голово<ломка>» далеко не везде.
Странная какая-то история: стопроцентный, убойный хит, который мог бы взорвать продажи и здесь, и не здесь (кто-то несколько грубовато, но хорошо назвал роман «глотком свежей крови») — а в итоге книга досталась всё тем же пяти, ну, десяти тысячам русскоязычных ценителей, и… собственно, всё. Её даже не переиздают.
Гаррос и Евдокимов написали в тандеме ещё три книги, а потом тихо расстались. Гаррос с тех пор занимается журналистикой (и он один из самых сильных эссеистов в России), а Евдокимов пишет романы, выпустил их уже штук пять, у меня даже есть знакомый, который все эти романы читал.
Что до меня: когда я с этой «Голово<ломкой>» знакомился — она меня, конечно, выбесила — в первую очередь, несправедливым и злым наездом на нацболов. Однако во всём остальном — я и по сей день это признаю — парни сработали просто чудесно.
Аналогия прямая и не самая умная, но всё равно правильная — то, что делают в кино Тарантино или Гай Ричи — Гаррос и Евдокимов поженили с русской гуманистической традицией, подсыпали пороха, поднесли спичку — и действительно рвануло. Приятные лимонадные пузырьки до сих пор стреляют в моей голове, когда я вспоминаю эту книжку — самое удивительное, что я её помню чуть ни по главам, хотя пару сотен других, прочитанных после неё — забыл уже напрочь.
Андрей Рубанов: «Сажайте, и вырастет!» («Лимбус Пресс», 2006).
В Рубанове точно есть крестьянская кровь. В его работе чувствуется упорство крестьянских переселенцев. Такие упёртые отстраивались в Сибири или ещё дальше — где холод и вымерзшая земля.
Он пишет по роману в год — далеко не все романы мне нравятся (как, думаю, и ему самому), но плохих сочинений у Рубанова всё равно нет — в каждом тексте чувствуется последовательный, жилистый, незлой, наблюдательный мужик.
Быть может, мне иногда у Рубанова не хватает собственно литературы. Для меня самое главное происходит в области языка, а у Рубанова самое главное происходит даже не в области сюжета (хотя с этим, например, в «Хлорофилии» всё отлично) — а в области, я бы назвал это, жеста.
В Рубанове не то, чтоб сильно, но весомо его прошлое зэка и бизнесмен «лихих 90-х». Его жестикуляция — оттуда. Не путать с «распальцовкой» — там этого нет вовсе. Текст Рубанова сделан из мускулистых движений. Некоторые пишут так, словно лежат посреди душистого поля и глядятся в звёзды, некоторые — будто идут по бульвару и вспоминают, вспоминают, третьи — сочиняют, словно читая лекцию, четвёртые, особенно частые — рассказывая в пошлой компании пошлые байки. Рубанов пишет так, как будто «качает железо» или ставит удар.
Он никогда не акцентирует свои политические взгляды, но внимательный читатель заметит, что Рубанов самый — в лучшем смысле — советский писатель из всех ныне существующих.
Советский писатель, что бы вы о нём не говорили — он словно какой-нибудь Жюль Верн. То есть, уровень идеализма в нём был крайне высок. У советского писателя имелось представление о добре и о зле. Мужчины там воспринимали себя в первую очередь как носителей элементарных мужских качеств (придти, увидеть, победить и потом помочь подняться). Женщины там жили целомудренно, умели ждать — месяцами, годами, весь век. То есть, героическое поведение там было нормой.
Рубанов при всём том, что пишет очень индивидуалистическую прозу (он из 90-х, я ж говорю, он из среды, где все друг друга продали) — этот идеализм советского писателя унаследовал. В его атеистических текстах совсем нет Бога, как и положено человеку просвещения или опять же советскому писателю, но с моралью всё в порядке. Мораль превыше целесообразности. Правда превыше иронии.
Как выяснилось, это очень редкий товар сегодня — сильный мужской роман, не разъеденный сарказмом. Книжка, где автор не ухмыляется в каждой строке (ну да, я и о Пелевине тоже), а говорит как мужчина, хорошим, спокойным, мужским голосом.
«Сажайте, и вырастет» — пожалуй, лучшая книга о 90-х, роман воспитания, повесть о настоящем человеке, иду на грозу, как закалялась сталь — её именно так можно было бы назвать.
А то, что настоящий человек взрастал в мерзости, под грозой подразумевалось внимание органов и возможный срок за решёткой, а сталь закалялась в каком-то, простите, дерьме — ну так что поделаешь. В какое время человек попал — там и жил.
Сергей Самсонов: «Аномалия Камлаева» («Эксмо», 2008).
Самсонов вошёл в шорт-лист «Нацбеста» с этой книгой — я в тот год был в жюри, и болел за него, потому что книга меня ошарашила.
Давно такого не было: я ходил потрясённый, и всем про неё говорил.
Удивительно, но люди чётко разделялись на две категории: одни испытывали тот же, что называется культурный шок — другие пожимали плечами.
Жюри «Нацбеста», например, вообще не поняло, почему нужно голосовать за Самсонова, и голосовало чёрт знает как. Я был, мягко говоря, взбешён.
Книга, между тем, демонстрирует какую-то небывалую авторскую хватку, интеллект, опыт и вообще явную растворённость сочинителя в происходящем.
Характерно, что первый роман Самсонова («Ноги») вовсе не предвещал, что следующее сочинение автора будет шедевром (а «Аномалия…» стопроцентный шедевр), а третий его роман («Кислородный передел»), равно как и очень любопытная, хорошо задуманная повесть «Одиннадцать», появившаяся следом — вновь указали на то, что Самсонов ещё в поиске, ещё ставит голос, ещё путается в оборотах, штанинах, смыслах.
Честно говоря, даже не знаю, как всё это объяснить. Снизошло? Но я не верю, что снизойти может целый роман. Эти стихотворение или рассказ можно написать в припадке вдохновения, а «Аномалия Камлаева» — целый воз, который надо было тащить, зная дорогу и умея обращаться с упряжью.
Теперь у меня возле дивана лежит очередной, четвёртый роман Самсонова. Честно говоря, боюсь за него браться. При чём, боюсь в обоих смыслах. Либо он снова не возьмёт прежний вес, и это будет обидным. Либо он напишет такое, что уделает всех остальных.
Лучше б уделал.
Да, про роман так и не сказал. «Аномалия Камлаева» — роман про композитора Камлаева, у которого была аномалия. И ещё у него было много прекрасных женщин. Собственно, женщины и стали главной его аномалией.
Самсонов писатель про аномалии, кстати.
Я ещё одного писателя знаю, который про патологии.
Совпадение, наверное.
Александр Терехов: «Каменный мост» («АСТ», 2009).
У Терехова изначально было какое-то другое название, то ли «Скоро всё кончится», то ли «Ещё ничего не началось». Имя, данное роману в издательстве, Терехов называет «стоматологическим». С тех пор как я услышал про «стоматологический», мне тоже слегка не по себе, едва задумаюсь о «Каменном мосте».
В любом случае, у нас на глазах появился великий текст, написанный с такой нерукотворной мощью, что я до сих пор не отойду от впечатления. Собственно, и не собираюсь отходить.
Не такой уж это и секрет, но все, бывающие у меня в гостях, могут заметить, что на стене моей комнатки, напротив книжных стеллажей, есть несколько (11) портретов моих любимых литераторов всех времён и народов. В их числе один молодой (фотография конца 80-х) парень. На снимке он почему-то очень похож на Башлачёва. Но это не Башлачёв. Собственно, его никто и не узнаёт. «Кто это спрашивают?» «Есенин», — говорю. «Нет, вот рядом» — «Лимонов» — «Да нет, вот этот…»
Вот этот и есть.
Дмитрий Быков: трилогия «Оправдание» («Вагриус», 2001), «Орфография» («Вагриус», 2003), «Остромов, или Ученик чародея» («Прозаик», 2010).
Тут такая история: из всех быковских романов, я более всего люблю первую его книгу — «Оправдание», она вышла, в 2001 году, и тогда прошла почти незамеченной.
Говорят, Быков пообещал в те дни: «Ну, я вам покажу» — чем лично меня многому научил.
Например, вот чему: если ты хочешь, чтоб прочли твою книгу — напиши следующую ещё лучше. Тогда прочтут обе.
Желательно ещё при этом заниматься множеством других параллельных и важных занятий (Быков меня этому не учил, но я сам догадался), которые будут подвигать ленивую и нелюбопытную публику обращать внимание собственно на то, ради чего ты сюда пришёл. В нашем случае, на романы.
Теперь «Оправдание» переиздаётся уже раз в 15-й — но этого никогда бы не случилось не будь написаны после него ещё 5 (или сколько там уже?) романов, 3 (или больше?) жизнеописания, несколько томов «Гражданина поэта», и прочая, и прочая.
Выскажусь грубо, но честно: хорошую работу надо навязывать. Используя для этой цели другую хорошую работу.
«Орфография», конечно, вызвала у меня некоторое раздражение — ровно по той причине, по которой этот роман понравился покойному Василию Аксёнову. Это книга о Петрограде после революции и о несчастных литераторах в этом Петрограде, которых в финале истребит человек, очень похожий на Зиновьева — большевистская сволочь и гадина.
Не то беда, что это антибольшевистская книжка (Быков скажет, что такое определение — глупость, но ведь не совсем же глупость). Беда в том, что главный её герой — Ять — это типаж, который органически мне не нравится.
Там есть такая важная сцена, когда во время Гражданской войны в одном подвале поочерёдно оказываются (могу ошибиться в деталях, но суть верна) большевик, анархист, махновец и какой-то эсер ещё. И среди них, тоже случайно, сидит Ять. Постепенно выясняется, кто они все такие — ситуация комическая, и поэтому Ять хохочет.
Ять хохочет, потому что ему все смешны, и понятны — и анархисты, и большевики и прочие там кадеты — и этот смех он будто бы нивелируют и эпос, и трагедию, и всякий смысл вообще.
Я не люблю, когда так смеются. Мне не смешно.
Однако, как ни крути", «Орфография» написана прекрасно. Схожие чувства у меня вызывали романы Марка Алданова (с ним, кстати, Быкова никогда не сравнивали, а зря) — всё происходящее там чуждо мне и кажется чрезмерно тенденциозным — но как пишет, стервец.
Что до «Остромова» — то я вообще не понимаю, отчего мы не носим Быкова на руках — настолько бесподобно это придумано и сделано — так сегодня умеет только он один.
…или уже носим?
Продолжение следует.
- Массированная атака Киева: над Россией уничтожили 124 дрона
- Онищенко предупредил россиян о весенней эпидемии депрессий
- Трамп не простит Зеленскому вмешательства в ближневосточный конфликт — Меркурис
- Эксперт сделал прогноз курса доллара до конца весны
- Названы главные опасности мегаполисов для здоровья человека
- Взрывы прогремели в Дубае и Манаме
- Вдова Жванецкого намерена издать две его новые книги
- Выяснилось, какие страны смогут пережить ядерную войну
- Названы самые популярные в России языки после русского
- Главные новости на утро 7 марта