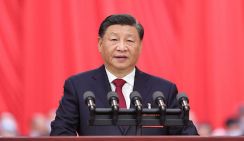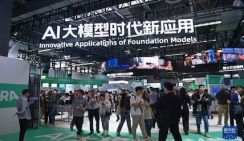«До 2030 года убудет до трети нашего авиапарка. Выход — это сокращение авиаперевозок…»
Андрей Патраков
«До 2030 года убудет до трети нашего авиапарка. Выход — это сокращение авиаперевозок…»
Андрей Патраков
- Взрыв в ночном клубе: много пострадавших
- Министра войны США обвинили во лжи об Иране
- Война с Ираном отобрала шансы у Киева
- В мире начинается масштабный инфляционный шок
- По порту в Одессе нанесен удар
- Сын погибшего Али Хаменеи ранен в результате атаки на Иран
- Командование США отказывается признавать пленение американцев в Иране
- Получив ядерное оружие, Киев сразу им воспользуется
Ангел заглянул
Захар Прилепин о поэзии «нулевых»
Борис Рыжий: «Оправдание жизни» («У-Фактория», 2004).
Наряду с Есениным и Павлом Васильевым я больше всего люблю Рыжего.
Я люблю стихи Рыжего огромной любовью — и, пожалуй, не только как собственно чтение. Я люблю его стихи как свою чудесную жизнь, как землю, на которой вырос, как голоса самых близких людей.
Поэзия его стоит для меня в одном ряду с памятью об отце и теми пресветлыми днями, когда рождались мои дети.
Это как раз те вещи, которые помогали (и помогают) мне оставаться человеком.
И, наверное, тут имеет место один из немногих случаев в моей жизни, когда я готов сказать, что не просто люблю его стихи — я самого Рыжего люблю как брата, как самого милого и родного человека, и скорблю о нём.
Мы почти ровесники, он был старше меня всего на год, у меня есть знакомые, знавшие его — в принципе, мы могли с ним увидеться.
Но я чувствую кошмарную пропасть между нами, — и дело не только в том, что теперь он старше меня на жизнь. Сама возможность нашей встречи кажется мне дикой, а собственные рассуждения об этом вульгарными. Будто бы я говорю, что мог бы в принципе встретиться с Баратынским. Да какое дело Баратынскому до меня.
Но, дурея от собственной наглости, я хочу вот что сказать.
У Рыжего есть тоже очень наглое стихотворение (одно из последних) «Разговор с Богом».
Я приведу его целиком, оно короткое.
" - Господи, это я мая второго дня.
— Кто эти идиоты?
— Это мои друзья.
На берегу реки водка и шашлыки, облака и русалки.
— Э, не рви на куски. На кусочки не рви, мерзостью назови, ад посули посмертно, но не лишай любви високосной весной, слышь меня, основной!
— Кто эти мудочёсы?
— Это — со мной!"
В общем, так, Борь. Если ты рискнул разговаривать с Богом, то я рискну с тобой.
Скажу по существу: будет необходимость, я тоже подтянусь. Привет.
Анатолий Кобенков: «Однажды досказать» («Издатель Сапронов», 2008).
О Кобенкове (1948 — 2006) я узнал только, когда его не стало — прочтя его подборку в «Дружбе народов».
Время такое — если за прозой ещё присматривают литературные премии, которым порой честь всё-таки дорога, и они подходят к делу осмотрительно, то поэзия бесхозна. Если сам в Журнальном зале не отследишь хорошего поэта — никто тебе не подскажет, что он есть.
Так что, теперь я сам подсказываю тем, кто вовремя на прочёл то, что прочесть следует.
Кобенков — редкий вид поэта, которому всякий раз есть, что сказать. Он не просто тасует слова, которые то ли мельтешат и стираются от каждого прикосновения, то ли, наоборот, надуваются несвойственным им смыслом. Он говорит так, что слова занимают ровно те места, которые должны были занять.
Его негромкая манера и напевный голос чуть роднит его с Окуджавой, но Кобенков как поэт, кажется, сильнее Окуджавы. Только где в читательском восприятии Окуджава — и где…
И при этом никакого пафоса, никакой позы, никакого тебе лирического героя с высоко поднятым подбородком. Человечный человек дядя Толя Кобенков.
«А на главный случай, / на один молчок, / дедушка-голубчик, / сделай мне крючок — / чтобы на крючок бы / губы я замкнул, / чтоб на мой молчок бы / ангел заглянул…»
Ангел заглянул.
Геннадий Русаков: «Стихи Татьяне» («Водолей Publishers», 2005).
Есть такое замученное выражение «нагота сердечной боли».Но в случае Русакова оно очень верно звучит.
Есть такие вещи, которые не даст сформулировать ни дар, ни интуиция, не предвиденье. Только возраст и опыт.
Другое дело, что многие и с возрастом либо так ничего и не осознают, либо уже не умеют об этом сказать.
Русаков, напротив, год от года становится всё изощрённее и точней — даже с точки зрения собственно поэтического, высшей пробы, мастерства.
«Откатились и стихли мои мелекесские грозы. / Я, как в старость, по горло врастаю в самарский песок. / Мне глаза заслонили трескучие божьи стрекозы / и тихонько садятся ко мне на пригретый висок».
«С годами голый взгляд уже вошёл в привычку, / хоть суть вещей страшна, убога или зла. / Зачем я столько лет прождал у камер птичку? / Прочёл три тыщи книг? Ссужал столетью спичку? / И обнимал случайные тела?»
Схожее ощущение было от позднего Георгия Иванова — это его невыносимое, тихое удивленье, что жизнь истончается, истекает.
Но Иванов всё-таки аристократ, а Русаков — простолюдин, чёрная кость, — хотя поэт, конечно, нисколько не меньший, чем Иванов.
В каком-то смысле это очень бесстыдные стихи. Таких откровенных и пронзительных строк про наступающую старость и одиночество русская поэзия ещё не слышала.
Один только вопрос: как же могли получиться такие же чистые, прозрачные стихи у, прямо говоря, немолодого уже человека?
Ответ очевиден: странным образом Русаков чувствует всё так же остро и точно, как чувствуют лучшие поэты в юности и младости. Опыт — огромен, жизнь за плечами — страшно оглянуться, а зренье всё то же, кожа — вся так же реагирует на холод и жар, ум по-прежнему зорок и быстр.
Пожалуй, стоит сказать, что всё-таки есть ещё одно сходство у Георгия Иванова и Русакова — лучшие стихи свои они написали (а Русаков, даст Бог, напишет ещё) уже после сорока.
Стоило дожить.
«Стихи Татьяне» — одна из самых любимых моих книг. Однажды за вечер всю её вслух прочитал своей жене. Ей тоже… очень понравилось. Очень.
Кажется мне, что всю жизнь буду перечитывать эти стихи — от них никуда не уйти, они тебя сами нагоняют на каждом новом подъёме. Или спуске вниз.
Максим Амелин: «Конь Горгоны» («Время», 2003).
Тут кто-то написал, что «читать Амелина — труд». Я бы добавил: полезный труд. Нет, серьёзно, я, когда читаю стихи Максима Амелина, всегда как-то даже немножко горжусь собой: вот, думаю, занимаюсь делом, а не ерундой какой-нибудь.
У него есть стихи, где нет объекта, и оно держится только на ритме. Есть стихи, написанные в одну фразу. Стихи с вкраплёнными молитвами на разных языках. Стихи, где ритм надламывается как сук на котором сидишь, и где ритм раскачивается как качели.
Амелин часто апеллирует к той поэзии, с которой начиналась русская словесность — Тредиаковский, Державин, Языков… Он считает, что на языке Пушкина уже поздно разговаривать с Богом. Пушкин уже подрастерял этот словарь. Амелин его, не без некоторой наглости, восстанавливает.
То есть, случился некоторый парадокс: у классицистов (не говоря уж об античности) учились все, кого знает и чтит нынешняя поэтическая братия — Мандельштам, Пастернак, Цветаева, Ахматова, Бродский.
Однако новое поколение стихотворцев в основной своей массе, прежнюю поэзию знает, кажется, не очень, предпочитая ориентироваться на поздние сливки — символистов, акмеистов (особенно акмеистов), ахматовский круг, наконец, друг на друга (это чаще всего).
(Футуристы или имажинисты интересуют исключительно с точки зрения перфоманса, а суровое влияние советской поэзии сведено почти к нулю).
Что до античности: о ней что-то слышали.
Амелин поступил наоборот. Он будто бы подаёт руку через головы Пастернака и Бродского — Сумарокову, Хераскову, Измайлову, Баратынскому и Хвостову тоже — ему с особенной нежностью.
Мы уже не говорим о Катулле, которого Амелин переводит с латыни или о преложении им Давидовых Псалмов.
Афанасий Мамедов сказал как-то, что Амелин больше, чем кто-либо работает с материей Большого времени.
Понятно, что до Большого времени Амелин добрался вовсе не потому, что разброс его поэтических предпочтений и увлечений расстилается на века. Но и поэтому тоже.
По собственному почину Амелин взял во владение огромное пространство: ему что Иван Волков, что Анакреон, что Санджар Янышев, что Оден — всё ближайшие соседи по ремеслу. Что теперь винить Амелина, если кроме него на это богатство больше никто не претендовал.
В очередной раз Амелин доказывает, что новаторство заключается не в том, чтобы сбросить всех наскучивших своим величием с парохода современности, а в том, чтобы самому спрыгнуть оттуда.
И поплыть потом.
Смотрите, смотрите, как плывёт!
«Из трудных избравши путей не самый, / не самый из легких путь, / середним иду меж горой и ямой, / с которого не свернуть / налево, где высится склон отвесен, / направо, где пропасть-пасть, / и нету ни вервий нигде, ни лесен, — / иль вознестись, иль упасть, / не знаю, что лучше, но только прямо / отныне не для меня, — / куда? — глубиной привлекая, яма, /гора, вершиной маня».
Виталий Пуханов: «Плоды смоковницы» («У-Фактория», 2003).
Как же скучаешь иногда по простым (никаким не простым), человеческим (как бы не так), ясным (это тебе только кажется) словам. Скучаешь просто! По простым! человеческим! ясным! словам!
Пуханов вообще не боится употреблять (упоминать) все эти древности: роза, парус, кровь, вино, ангел. Но только они у него оживают, и вновь становятся натуральными, не книжными, с шипами, с крыльями, с горчинкой и с кислинкой.
Пуханов — это как будто с тобой поговорили и дали надежду. Или не дали?
При чём, не мать поговорила, ни жена, ни ангел, а — товарищ, говорящий на твоём языке, человек из плоти и крови, который уже в курсе как это бывает — но только он, в отличие от тебя, выжил, дембельнулся, пришёл. Или не выжил и не пришёл, но дембельнулся?
В любом случае, избавить от предстоящей жизни он тебя не может, да и не вправе, но поддержать умеет как никто.
…как никто тут не поддерживает. Потому что в стихах Пуханова «ад» далеко не самое редкое слово, и «Содом» тоже. Он знает, как трава касается лица корнями (понимаете, о чём это?!) и если успокаивает, то самым неожиданным образом: «Ты дорожи своей бедой».
Я не уверен, что у Пуханова есть надежда на любовь и воскрешение. Но на что-то точно есть. На ещё одну встречу. На ещё одно слово. На месть, в конце концов: «Я родился от двух некрасивых людей, / Уводивших в порожнюю степь лошадей. / И на голой земле, где холодная страсть / По моей забродившей крови разошлась, / Я родился под утро, сутул и горбат, / Нерадивый любовник, негодный солдат, /И скажу тебе так, и скажу тебе, как /
Неразменный в ладони грубеет пятак, / Я приду, я найду вас на том берегу. / Я приду, ваши черные книги сожгу. / И зола не успеет в огне побелеть, /Только ты не посмеешь о том пожалеть".
Ах, как хорошо. Я когда читаю это вслух, у меня настроение улучшается.
Хотя сам я рождён от красивых людей, да и сам Пуханов, насколько мы заметили, не сутул и не горбат ни разу, а как раз наоборот.
Но какие стихи зато.
И, потом, мы все знаем, что классический текст на глаз, да ещё при жизни поэта определить сложно. Стихи, как вино, им дай отстояться.
Но в случае с некоторыми текстами Пуханова так ёкает сердце, что уже наверняка понимаешь — это надолго, это и через пол ста лет будет читаться как сегодня.
Помните вот это, любимое моё: «Вены я перерезал садовым ножом, / И они проросли, как сумели. / Утром судного дня я покинул Содом, / Посмотреть, как цветут иммортели. / От счастливой судьбы, от красивых людей / Я вернусь молодым и любимым, / Чтоб клевал мою кровь на снегу воробей, / Как застывшие капли рябины. / Чтоб леталось легко по земле воробью / И душа не просилась на волю,/ Потому что тогда я его не убью /
И другим убивать не позволю".
Александр Кабанов: «Бэтмен Сайгадачный» («Арт Хаус медиа», 2010).
Вообще, можно было бы назвать любую другую книгу Кабанова. Саша, быть может, обидится, но вообще отличие одной его книги от другой разительным не назовёшь.
С другой стороны, а кто сказал, что они должны отличаться?
Нравиться интонация Кабанова? — Очень. — Его парадоксальный, до некоторого рафинированного изуверства, ум? — Я в восторге. — Безупречная рифмовка и вообще выправка стиха? — О, да. — Ну, и всё тогда, иди прочь. — Иду.
Мы с Кабановым неплохо знакомы — причём, познакомился с ним уже тогда, когда полюбил его стихи и почитал его за одного из лучших современных поэтов (и по сей день так думаю). Меня всегда удивляло в нём, как в человеке, что Кабанов — совершенно не поэт. Он мог бы оказаться кем угодно. Из «криминальных». Из «органов». Из военных. Из медиа. Чёрт в ступе он мог быть, но вот не поэт точно.
Он никогда не демонстрирует ни склонность к парадоксам, ни тонкую или сложную натуру, ни вообще традиционную поэтическую привычку к самоподзаводу и некоторой истерии.
Он вменяемый мужик с обычными мужицкими проблемами и разговорами. О чём никогда мы не говорили за рюмкой водки — так это о поэзии.
И при этом — «звуки нечеловеческой чистоты» — которые он извлекает в одном стихотворении, водя пальцем по губам людей из горного хрусталя — это как раз о его стихах.
Для поэзии Кабанова характерна одна, совершенно немыслимая вещь. Его стихи ровны в своей близкой к абсолютной безупречности. У него не нужно выискивать блестящие, лучшие стихи. Они у него все лучшие. С любого места начинай цитировать — и не ошибёшься.
«Проснулся после обеда, перечитывал Генри Миллера, / ну, ладно, ладно — Михаила Веллера, / думал о том, что жизнь — нагроможденье цитат, / что родственники убивают надёжней киллера / и, сами не подозревая, гарантируют результат. / Заказчик известен, улики искать не надо, / только срок исполнения длинноват… / Как говорил Дон Карлеоне и писал Дон-Аминадо: / „Меня любили, и в этом я виноват“…»
Видите, не ошибся.
Анна Русс: «Марежь» («Арго-риск», 2006).
Очень остроумные, голосистые, лишённые назидательности, всего этого привычного поэтического многословия, будто бы лежащие на ладони стихи.
Русс пришла в московский мир поэтических тяжеловесов и снобов, самоуверенных юношей и всё познавших девушек — смотрела тихими татарскими (не совсем татарскими, но всё-таки в Казани выращенными) глазами — и когда начались слэмы — по сути, уделала всех.
Её стих, и так стремительный и воздушный, в авторском исполнении зазвучал просто обескураживающе. Я видел её на сцене, и был потрясён, какая природа там искрилась, ликовала, вскрикивала и проносилась от сцены вдоль и поперёк рядов по-над самыми головами слушателей.
Русс в чёрном оперенье.
Она никак не выказывала своих амбиций — может быть, вообще не очень серьёзно относилась к тому, что разом вошла в число первых поэтов столицы, а первой поэтессой стала точно.
Такое случалось в Серебряном веке, когда какой-нибудь юноша появлялся там, и сразу… Ну, помним, в общем.
Сергей Есин, ректор Литинститута, где училась Русс, предваряя однажды её выступление, сказал, что так, как Аня — начинала Белла Ахмадулина. Потом, в своём известном дневнике, ещё раз осмысляя сказанное им вслух, Есин написал, что никакого преувеличения в его словах, пожалуй, не было.
Ощущения от Русс были те же: новизна, радостная женская сила — и нерусская какая-то тайна, строгое очарование.
Но после множества успешных и шумных слэмов, вышедшей книжки, «новомирских» публикаций
Причины, наверняка, веские, но жаль, жаль.
В столице всего полно, поэтов хороших — просто завались, а Русс всё равно не хватает.
Ну, хоть есть её первая книжечка, маленькая, карманная, зачитанная наизусть.
Игорь Чурдалёв: «Нет времени» («Нижний Новгород», 2002).
Поэтика Чурдалёва по нынешним временам может кому-то показаться излишне прямолинейной, а смыслы, заложенные в стихах — чрезмерно наглядными. У нас наглядности не любят, стремятся, чтоб в простоте ни слова. Простота нас, знаете ли, разоблачает — и не факт, что без одежды, мы столь же хороши, как в своих нарядах.
Естественно, что простота Чурдалёва обманчива. По сути, здесь тот же самый случай, что с Рыжим или Русаковым — ни о каком обмане речь идти на может, когда за всё заплачено собой.
Другой вопрос, что за эту оплаченность чеков не дают, их никому не предъявишь в качестве доказательства — её можно либо почувствовать, либо нет. А так ведь каждый может сказать: у меня вся боль натуральная, вся тоска невыдуманная и все печали патентованные. И не поймаешь поэта за лживый локоток.
Более того, Чурдалёв — это ещё и изжитая, имевшая когда-то место густопсовая гусарская бравада и прочие забубённые, не без манерности, понты. В нём ведь, как я догадываюсь, кипело всё это: уверенность в своей единичности, едкий иронизм, жгучее желанье поставить мир на место.
Но вот пол века минуло, остался сам с собою человек — честный только для себя, давно отошедший от поэтических соревнований, убивший в себе все до последней амбиции — и лишь не изживший привычку размышлять в рифму.
И всё вроде ничего, только порою он «пугая заботливых близких, / лицом омертвеет на миг / - и вспыхнут зрачки василиска / сквозь слёзы застывшие в них».
…Всё перегорело и пепел разнесло, но зрачки эти нет-нет да остановятся на тебе; и ты чувствуешь этот взгляд. Стихи Чурдалёва тот случай, когда прочитанное иногда достигает не эстетического эффекта, а физического.
Анна Матасова (она же — Урсула Дар): «Медвежья гора» («Самолёт», 2009).
Стихи Анны Матасовой — любовь с первого взгляда.
Потом, сами понимаете, с любовью могут быть разные отношения. Но это же не отменяет саму любовь — которая, признаем, не так часто случается.
Как оно было. Помню, у меня вышел роман «Патологии» в журнале «Север», в далёком 2005 году, и в том же номере, была подборка стихов Матасовой. «Ну, за маму ещё, за папу / по глоточечку пустоты». Мне дико понравилось. Я даже нашёл через редакцию адрес Матасовой и послал ей письмо — с сердечной радостью и благодарностью. Сроду так не делал ни с кем — а тут не вытерпел.
Она из Питкяранты, там снежно, холодно.
Стихи Матасовой — полное ведро серебряного словесного льда. Потрясёшь ведёрко — в этом ледяном говорке и рокотке складываются стихи. Подержишь над ведёрком руки — а от него, как ни странно, идёт жар.
«Лизни железный штырь / В лютый волчий мороз. / Детство твоё — поводырь, / Оно доведёт до слёз. /Пусть проберёт до пят / Розовый жар с щеки, / Пусть за спиной сопят / Девочки-мальчики. / Просто лизни его / Отполированный край… / Жив твой язык, ничего, / Сплёвывай кровь давай».
Теперь я в иных ранних её стихах замечаю порой какое-то — впрочем, очень идущее Матасовой, — мальчишество, и дань рок-н-роллу, который, как мы с Матасовой знаем, можно только петь (а читать ни-ни), и вообще юную руку, ещё не оттянувшую тетиву настолько, насколько возможно.
Но там было и другое.
Ощущенье, что во имя живого, на крови, языка и его понимания (осязания), Анна Матасова так и будет голыми руками разрывать снега в поисках упавшего когда-то в вечную мерзлоту золотого, или, в другую пору, теми же руками, рыть и рыть землю, дабы найти забытый корешок — чтоб приживить от него невиданный цветок.
Матасова начинала с того, что не ведала, что говорила. Теперь, с каждым годом, она ведает всё больше. Словесных корешков всё больше, висят над огнём, — скоро бросит их в огонь, и расскажет нам, кто мы и что с нами будет.
Игорь Белов: «Музыка не для толстых» («Калининград», 2008).
Белов пишет стихи, которые я сам писал бы, если б умел так же.
Может, оттого, что мы оба с Беловым родились в июле 1975-го? Или это не важно?
В общем, мои приметы, мои любимые размеры, и рифмы, которые я мог бы придумать, да не придумал, и рождественский рэп, и портрет спившегося ангела по прозвищу Микки Рурк на стене, и ещё Белов, о, ужас, позволяет себе слово «трусики», а не трусы — это вообще ни в какие ворота, мы же знаем.
То есть, там и плохое тоже такое же, какое было бы, наверное, и у меня: несколько излишнее стремление к тому, что б было красиво (а что мы можем поделать, если вокруг нас всё действительно очень красиво, не то что вокруг вас), вся эта губановская словесная каша (только у Губанова невротическая, а у нас с Беловым — стоически-ироническая), и неосмысленные перепевы Рыжего (которые мы выдадим за осмысленные).
И даже не знаю, к плюсам или к минусам отнести наше совместное с Беловым слегка неровное дыхание к одному калининградскому, э-э, гению: «за стойкой меняют пластинку так долго ищут её / как будто меняют родину — ну или там бельё /в меню полыхает надпись — одевайся и уходи / всё правильно ставят группу по имени «Бигуди»
Я во всём согласен с Беловым, как с самим собой. Рифмовать «пиздец» и «сердец» очень правильно.
Потом, наверное, он откажется от многих стихов из этого сборника.
А я не откажусь. Своих не сдаём.
- Над Россией сбили 72 дрона ВСУ
- Грецию сотрясли мощные подземные толчки
- Зеленский будет вынужден подчиниться Трампу
- Главные новости на утро 8 марта
- Глобальному Югу нужно объединиться против гегемонизма — Ван И
- В Новосибирской области начали изымать домашний скот из-за вспышки бешенства
- Министра войны США обвинили во лжи об Иране
- Нужно уважать суверенитет Ирана и всех стран Персидского залива, заявил Ван И
- Война с Ираном отобрала шансы у Киева
- Сводки с фронта: Армия России не позволила ВСУ провести ротацию в Днепропетровщине