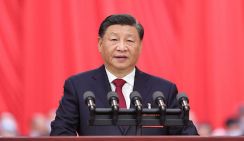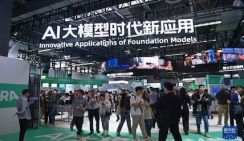«До 2030 года убудет до трети нашего авиапарка. Выход — это сокращение авиаперевозок…»
Андрей Патраков
«До 2030 года убудет до трети нашего авиапарка. Выход — это сокращение авиаперевозок…»
Андрей Патраков
- Страшная находка: у детской площадки обнаружены чемоданы с телами двух девочек
- Гиперзвуковые ракеты обрушились на Тель-Авив
- В Штатах испугались десятков тысяч «Шахедов»
- Финляндия решила передумать по поводу ядерного оружия
- Обычные продукты могут избавить от дефицита магния
- США придется покинуть Ближневосточный регион, уверен аналитик Макгрегор
- Главные новости на утро 5 марта
- Финансово Иран обыгрывает США в 60 раз
По направлению к Эммануэль
Виктор Топоров на смерть Сильвии Кристель
Когда на экраны вышла первая «Эммануэль», мне было 28 лет, а посмотрел я ее лет в 40 с лишним. Да, строго говоря, и не посмотрел: предпринял пару попыток в видеозале коктебельского Дома творчества (там, где теперь двухэтажный ресторан с мелитопольским стриптизом) — но крутили ее лишь на полуночном сеансе и я приходил туда пьяным; свет гас, Сильвия Кристель выставляла ножку — и я засыпал. А просыпался, когда по экрану ползли заключительные титры, в которых, увы, не было ничего сенсационного, в особенности — эротически сенсационного.
Молодая подруга моя из Питера — член КПСС, но самых демократических, самых перестроечных настроений — к тому времени уже уехала, и на огороженном и тщательно охраняемом от посторонних писательском пляже мне было тогда до поры до времени одиноко. А ведь в первый же день по приезде, проходя мимо Дома творчества, мы почувствовали, как нас — да и не только нас — буквально обдало волной ярости. Это разглядывал афишу видеозала («Греческая смоковница», «Девять с половиной недель» и, разумеется, «Эммануэль»), раскачиваясь от распирающих его чувств, миниатюрный ладно скроенный мужичок в черном костюме-тройке, с орденом и депутатским значком на груди.
— Глянь-ка, — сказал я подруге, — Василий Белов пожаловал!..
Это и впрямь был он — знаменитый писатель, депутат Верховного совета и, как тогда считалось, мракобес. Ну, а мы мракобесов как-то недолюбливали. И прошли на пляж. Писком моды тогда были совершенно невинные с виду сплошные купальники, становившиеся абсолютно прозрачными после того, как окунешься в воду. И только дочь знаменитого писателя-демократа и «апрелевца» знаменитая в Коктебеле Феничка бесстрашно загорала топлесс, развесив косые сисечки по обе стороны редкой по тем временам раскладной пляжной сумки-подстилки.
Чуть погодя появился на пляже и автор пророческого романа «Все впереди». Переодеться он догадался (вместо костюма-тройки были теперь на нем маечка и, страшно сказать, шорты), а захватить с собой пропуск на пляж или какой-нибудь другой документ — нет. И седовласый смотритель преградил Василию Ивановичу дорогу. — Я писатель. Я тут отдыхаю. Я депутат Верховного совета, — начал было тот. — Какой ты писатель! Ты ханурик! — припечатал его смотритель, а уж он-то на писателей насмотрелся.
Впервые попав на этот пляж 40-летним и оглядевшись по сторонам, я ощутил себя молодым мужчиной несколько выше среднего роста. Среднего здешнего, естественно, — со своими 162 см. Но особенно страшны были тут не мужчины, а женщины. Писжены и, за редчайшими исключениями, писдочери. Писательство слыло модным занятием — особенно в Коктбеле — и через невысокую преграду, в поисках престижного знакомства, а то и замужества, на огороженный пляж лезли длинноногие юные красотки, — с ними-то и боролся, их-то и отлавливал и немедленно изгонял седовласый смотритель — и делал он это по требованию разлегшихся здесь с фруктами и вязаньем (пока мужья писали пулю или играли в гигантские шахматы) каракатиц.
Сильвия Кристель как раз была замужем за писателем. Ну, не совсем замужем, но родила ему сына. Да и был он не только писателем (прозаиком, драматургом и поэтом), но и театральным режиссером. Когда в католической Бельгии запретили один из его спектаклей — с демонстрацией живого секса на сцене, — он, поскольку королева и ее сатрапы покусились на самое святое, смертельно обиделся и демонстративно эмигрировал в соседние Нидерланды. В советской печати его, Хюго Клауса, клеймили как голландского порнографа и мужа «Эммануэль» и печатали как знаменитого бельгийского прозаика и поэта, причем стихи его переводил — две огромные монографические подборки, по сути дела, два сборника — ваш покорный слуга.
«Интересно, почему советские писатели женятся на таких страшилищах?», — подумал я, впервые попав на писательский пляж. И тут же до меня дошло, что логика тут прямо противоположная: те, кто женятся на страшилищах, становятся советскими писателями заметно раньше других. Я-то вот вступал в Союз писателей 15 лет и сменил за эти годы трех жен, а ведь были и у меня перспективные варианты…
Коктебельские старожилы — писатели лет шестидесяти с хвостиком и старше (примерно как я сейчас) ностальгически рассказывали мне о том, как в начале 1970-х устраивал для них на этом пляже показательные соития с молодой женой один непечатный автор, — тот самый живой классик, что написал сейчас замечательный некролог Сильвии Кристель и в некрологе этом ту самую молодую жену с Эммануэль как раз и сравнил, так что всё срастается. И брал он с них за «погляд» всего по два рубля с носа… Ну, или с того, что иносказательно назвал носом другой малоросский классик.
Сильвия Кристель обладала тем дивным качеством, которое нынче определяется отвратительным словом «ябвдульность». Вдуть ей хотело все человечество в нескольких поколениях: все мужчины и три четверти женщин. И многим — но все же пренебрежимо малым на фоне жаждущих — это удавалось: актриса понимала природу своего обаяния и отвечала на ее вызов. Делиться надо! — в том числе и с миллиардами дрочеров, — а ведь дрочили на нее именно миллиарды. Но мы-то, люди старшего поколения, проведшие детство, отрочество и юность (а также молодость и зрелость) за железным занавесом, обходились несколько по-другому. Эмманюэль у нас не было, но предчувствие Эмманюэль было разлито в воздухе. И движение «по направлению к Эмманюэль» (прости, Пруст) — движение поступательно-вращательное — шло долгими десятилетиями.
Началось в середине 1960-х: жили мы не во Франции, и студенческие волнения происходили у нас исключительно из-за миниюбок. По сути дела, это была подлинная сексуальная революция — сменилась парадигма привлекательности, парадигма соблазна — и не будь наши ведущие сексологи гомосексуалистами, они, разумеется, подметили бы это задолго до меня. Ну, или подметили бы одновременно со мной — но написали бы куда раньше.
На смену прежнему арсеналу красоты: лицо (прежде всего, большие, желательно голубые, глаза), грудь, толстая коса и столь же толстая попка, подчеркнутая тонкой — или хотя бы сравнительно тонкой — талией пришли ноги (от ушей или нет, но непременно оголенные), маленькие, практически никакие грудки под свитером на голое тело или в бесстыдно, по-мальчишески, расстегнутой блузке и все те же глаза — только уже не столько сами глаза — и не голубые, а лучше зеленые, — сколько блудливый, как у козы, взгляд (можно, из-под очков). Как и Сильвия Кристель, предметы наших изменившихся вожделений претендовали на определенную интеллектуальность и водились, главным образом, на полугуманитарных факультетах — географическом, биологическом, экономическом, философском. И философию они исповедовали «эмманюэлевскую»: сначала «дать», а потом посмотреть, что получится.
В 1984 году знакомый по академическому Комарову (зять самого Шостаковича) сказал мне: «Вот, я привез на кассете „Последнее танго в Париже“, но это такая гадость, что я ее, пожалуй, сотру». — Ты, блин, не строй из себя министра культуры, — возразил я ему. — Сначала людям покажи, а потом уж, если хочешь, стирай! — Но все же порекомендовал нашим дамам не брать с собой дочерей на единственный перед уничтожением фильма просмотр.
А другой мой знакомый (впоследствии заведовавший в демократическом Ленсовете культурой) профессионально переписывал на нескольких воронежского производства видеомагнитофонах жесткое порно — и с этого жил. Но вот однажды пришли к нему постоянные покупатели из солнечной Грузии, а у него для них как назло ничего не нашлось. Не желая терять лицо, он отдал им из личного пользования «Казанову» Феллини. Через неделю грузины вернулись очень довольные — и попросили еще чего-нибудь в том же роде.
В 1974 году, когда вышла первая «Эмманюэль», у меня родилась дочь Аглая. Ее мать и моя вторая жена, ровесница Сильвии Кристель, студентка Института, ныне Университета культуры («У вас вместо диплома — декрет», — шутил я), была очень красива, но совершенно в другом вкусе. А вот моя тогдашняя возлюбленная, наоборот, была по многим параметрам воплощенная Эмманюэль — пусть и не с лица. Но ведь с лица не воду пить — это мы, начиная с сексуальной революции 1960-х, знали твердо. «Из-за длинной и белой ноги с Топоровым мы стали враги. Покороче будь эта нога, я бы в Вите не нажил врага», — написал мне тогда равноудачливый соперник. Сам же я с увлечением переводил стихи Хюго Клауса — и получалась у меня когда лютая антисоветчина, когда просто похабщина.
А вот «Эмманюэль» я так и не удосужился посмотреть. Да и «Эмманюэль-2» тоже. Видел целиком какой-то поздний сиквел с 40-летней Сильвией в эпизодической роли. Но 40-летние женщины — это отдельная песня — и не сказать чтобы сладостно лебединая.
- Женщины России рассказали о самом лучшем подарке на 8 Марта
- Стало известно, кому нельзя бананы
- Киев продолжает атаковать: над Россией сбили 76 вражеских БПЛА
- В Штатах испугались десятков тысяч «Шахедов»
- В Хабаровске ввели особый режим из-за кори
- Главные новости на утро 5 марта
- Финляндия решила передумать по поводу ядерного оружия
- Обычные продукты могут избавить от дефицита магния
- Страшная находка: у детской площадки обнаружены чемоданы с телами двух девочек
- Стало известно, когда Солнце перестанет вызывать магнитные бури