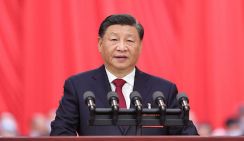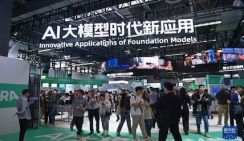«Активы наших диссидентов "морозили" на Западе не только ради их лояльности...»
Сергей Обухов
«Активы наших диссидентов "морозили" на Западе не только ради их лояльности...»
Сергей Обухов
- Страшная находка: у детской площадки обнаружены чемоданы с телами двух девочек
- Американист сообщил о непопулярной версии убийства Хаменеи
- Женщины России рассказали о самом лучшем подарке на 8 Марта
- В Штатах испугались десятков тысяч «Шахедов»
- Стало известно, кому нельзя бананы
- Финляндия решила передумать по поводу ядерного оружия
- «СССР показан мельком»: Грымов раскритиковал недопуск фильма «Нюрнберг» к прокату
- Боевики «Шквала» пытаются массово дезертировать с позиций в Запорожье
Матушка моя колючая проволока, батюшка мой забор
Проклятый вопрос: уезжать или оставаться?
«Заграницу я не люблю. Не понимаю и не хочу понимать самой основы, души ее, и поэтому она навсегда останется чужой. Я удивляюсь ее культуре, ее электричеству, дорогам, богатству и чистоте. И больше всего удивляюсь трудолюбию ее жителей. Здесь все и всегда работают, как крепостные, без праздников и отдыха… Я восхищаюсь ими и чувствую себя бесконечно чужой им… Я знаю, что я имею что-то, чего нет у них, что-то очень большое и важное, что мне дала ленивая и пьяная Россия, и что это что-то есть самое большое и важное на свете».
Наталья Климова, террористка
I.
Четверо детей — два мальчика и две девочки, братья и сестры свергнутого императора Ивана Антоновича, — сидели в русской тюрьме тридцать девять лет. Ну, почти что в тюрьме — дом в Холмогорах возле собора, при нем сад, гулять по городу нельзя, даже на улицу выходить нельзя, принимать гостей нельзя, видеться можно только с собственной обслугой-охраной. Отдельным указом Елизавета Петровна, известная своей гуманностью, запретила учить этих детей читать и писать. Но они выучились как-то сами — и в прошении, поданном через местное начальство, кажется, уже Екатерине, писали: «просим, чтобы нам было позволено выезжать из дома на луга для прогулки, мы слышали, что там есть цветы, каких в нашем саду нет».
Где-то там, далеко за забором, растут другие цветы. Другие, вы понимаете, не те, что тут. Но ездить туда запрещено, потому что царица, которая давно умерла, произведя переворот против регентши, тоже умершей, низложила наследника престола, много лет уже как убитого, а так как в завещании предыдущей царицы, тем более мертвой, было сказано, что вслед за покойным наследником право на трон имеют его ближайшие родственники, прочно всеми забытые… — в общем, спецтерритория за забором закрыта для посещений до особых распоряжений. И если вы родились и живете в России, то вы можете немножко ходить туда-сюда по двору, потом перекличка, обыск, наряды, а потом можно еще раз туда-сюда.
Но через тридцать девять лет их все-таки выпустили на свободу — отправили в Данию.
II.
Из словаря Ушакова: «распустить — дать кому-нибудь возможность разойтись или разъехаться, отпустить, освободив от занятий, обязанностей».
Иногда кажется, что лучшей национальной идеей для России было бы просто распустить ее. Да, именно так: в один прекрасный день к народу выходит президент, премьер, царь, генсек, все равно, главное, что выходит и говорит — в связи с тем, что мы все очень устали здесь находиться, нам грустно, нам плохо, нам тяжело, так вот, в этой связи мы закрываем эту страну навсегда и отправляем всех ее жителей в те 124 государства по списку ООН, что любезно согласились принять их.
И никаких самолетов, никаких виз и злых миграционных фильтров. А просто каждый — в установленный час, где бы он ни был, — моргает три раза подряд и сразу оказывается там, где нет и никогда не было родного ада. Например, среди пальм, пиний и кипарисов, под неправдоподобно ясным и нежным небом, возле какого-нибудь тысячелетнего, помнящего еще крестоносцев с альбигойцами дома, где теперь пекут хлеб, делают масло, вино, но это вовсе не самое главное, а самое главное то, что здесь даже воздух — неотразимый, неотменяемый аргумент. Первый вдох — и ты забыл, что такое «оскорбление чувств верующих карается…». Второй вдох — и ты забыл, что значит «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений карается…». Третий вдох — и ты вообще не помнишь такого слова: «карается». Странное слово какое. Кара — здесь это женское имя. Кстати, вот и она, идет мимо. А куда идет Кара? Кара идет к морю.
Море так близко. Море всего в двух шагах.
III.
Потому что Россия — это сама безнадежность. Да, можно когда-нибудь сменить правительство, выгнать начальника, запретить одни партии, газеты, должности, лозунги — и разрешить, навязать совсем другие, прямо противоположные, но нельзя изменить главное: климат, историю, логику здешней жизни, сам воздух, свое собственное дыхание. Первый вдох — и ты понимаешь, что оскорбил чувства, а значит, придут и заберут за забор. Второй вдох — и ты уже пропагандируешь нетрадиционное сексуальное, и значит, придут и заберут за забор. Наконец, третий вдох. Ты уже умный, ученый, сидишь и молчишь, спина ровная, глаза в пол, и стараешься по возможности не моргать, мало ли, на всякий случай, — но все равно ведь придут. Все равно заберут, ну или хотя бы испортят жизнь так, как если бы уже забрали. И тогда хочется не молчать. И тогда хочется нервно и некрасиво кричать.
Уберите отсюда забор! Нет, я не знаю, как это сделать, я знаю, что он бетонный и не ломается, но сделайте что угодно, взорвите его, сбросьте на него атомную бомбу, но только чтоб здесь его не было! Включите солнце! Выключите февраль! И март тоже выключите! Выкопайте номенклатурную кремлевскую елку в снегу, посадите на ее место пальму! И апельсин! И бамбук! Бейте бамбуковыми палками по пяткам всех заслуженных работников госбезопасности, защитников отечества, приверженцев традиционных ценностей, майоров духовности и генерал-лейтенантов державности! Выгоните прокуроров и депутатов, позовите на их место крестоносцев и альбигойцев! Переименуйте спецтерриторию! Теперь это вилла, так превратите колючую проволоку и забор в чиаббату, вино и оливковое масло!
А чуть попозже — слегка успокоившись и сменив неподобающее множественное число на единственное, — жалобно, тихо просить. Ведь Ты же можешь, я знаю, Ты так уже делал, ну что Тебе стоит — превратить колючую проволоку и забор в вино?
Ответа не было. Или иначе.
Ответ был. Но он тебе не понравился.
IV.
Из словаря Даля. «Судьба. Неминучее в быту земном, пути провидения; что суждено, чему суждено сбыться или быть. Согласованье судьбы со свободой человека уму недоступно. Не судьба крестьянскому сыну калачи есть. Не привела меня судьба в те места».
А еще судьба — это милиционеры, запиравшие меня, нелепо пьяного, в клетку где-то на метро «Фрунзенская», и милиционеры, вымогавшие у меня, трезвого, хотя бы мелкие деньги на углу Садовой и Бронной, и офицер из пресненского военкомата, с ласковым, как у Деда Мороза, голосом, приглашавший меня, как он выразился, выполнять свой священный долг. Судьба — это очередь на отоваривание талонов, когда пишешь на ладони свой номер, а вокруг все ругают плачущего большевика Рыжкова, это старушка из подмосковной деревни, рассказывавшая мне о войне — «И самолет прямо над нами летит, я уж думаю — все, а тут этот немец как прыгнет, толкнул меня и закрыл меня собой от взрыва», это другая старушка, которую я тоже успел услышать — «Ох и плакали мы, ох и плакали, когда отца-то провожали, еще на ту, на империалистическую». Судьба — это когда бежишь за остро необходимой справкой из одного учреждения в другое, бежишь по сплошному льду, и сугробам, и буеракам каким-то, ну и, конечно же, в темноте, а это другое учреждение через десять минут закроется, а впереди еще железнодорожные пути, мост, гаражи, но ты не падаешь, ты успеваешь, и вот когда ты успел, ты замечаешь, что тетка из учреждения с тобой даже шутит, могла бы выгнать, могла бы наорать, сказать — не дам я вам никаких справок, идите отсюда, а она веселая, а она шутит, пока ставит тебе печать, какое счастье. Судьба — это мужик с бензопилой, идет за тобой и постоянно делает так: дыр-дыр-дыр! дыр-дыр-дыр! — и просит на опохмел, а когда ты даешь, ласково машет тебе своей бензопилой и говорит, ну ты это, если тебя кто обидит, ты мне скажи и я ему сразу. Судьба — это бывшие колхозные поля с горохом и кукурузой, застроенные коттеджами, и «нормальные ребята» в безразмерных цветастых шортах, и девочки со специальным таким маникюром, когда на ногтях, кроме собственно лака, еще нарисованы разные сердечки-цветочки, и могила монахини Митрофании из Вознесенского монастыря на газоне в монастыре Андрониковом — Вознесенский монастырь снесли, Андроников монастырь ликвидировали, кладбище уничтожили, а монахиня Митрофания каким-то чудом осталась тут, одна на лужайке. Судьба — это дурацкие свадебные замки, Коля+Маша, Влад+Алиса, висящие на мосту, и ты смотришь на них и думаешь, ну, пройдет двадцать лет, пройдет тридцать лет, и на таких же замках будет написано Коля+Влад, Алиса+Маша, и никто уже не будет за эту свадьбу карать, но в остальном все останется буквально так же, жара, плохое шампанское, платье, которое волочится по грязи, и еще длинная лента с надписью «Свидетель» через плечо.
Но и когда карают — за свадьбу или за монашество, за плохую справку или за немцев, за уклонение от священного долга, за пьянство или просто за дыр-дыр-дыр, — это тоже судьба.
А раз это судьба, то пусть даже в один прекрасный день к народу выйдет президент, премьер, царь, генсек, все равно, главное, выйдет и скажет: в связи с тем, что мы все так счастливы здесь находиться, нам тут так хорошо, так приятно, а вон оттуда, из-за забора, нам угрожают то крестоносцы, то альбигойцы, то торговцы оливковым маслом, так вот, в связи с этим мы закрываем эту страну навсегда, объявляем ее — официально — тюрьмой, причем для всех и на пожизненное, а если кто не согласен, то прямо сейчас у вас есть последний шанс три раза подряд моргнуть и немедленно оказаться под нежным небом, в двух шагах от моря, ну что вы мычите, решайте быстрее, там или тут, колючая проволока или вино? — в общем, если когда-нибудь мне так скажут, то я уже сейчас все решил.
Да, на тех лугах есть цветы, каких в моем саду нет. Но не привела меня судьба в те места. Проволока, начальник, проволока.
И еще бензопила иногда.
V.
Четверо детей — два мальчика и две девочки, братья и сестры свергнутого императора Ивана Антоновича, — после тридцати девяти лет в русской тюрьме в Холмогорах, наконец, уехали в Данию. Трое из них там быстро умерли, а вот одна девочка осталась жива и состарилась. И когда она состарилась, она написала письмо в Россию, императору Александру. А писала она ему вот что.
«Мне худо тут жить между этими лукавыми датчанами, которые хитры и всегда меня так много обижают. Я всякий день плачу и не знаю, за что меня сюда Бог послал, и я всякий день поминаю Холмогоры, потому что мне там был рай, а тут ад».
Александр ей не ответил.
Фото: Андрей Коршунов/Коммерсантъ
- Посол Бурляй рассказал о совместной операции России и США в Эквадоре
- В Пентагоне заявили о работе над установлением контроля США в Гренландии
- Депрессия и жестокость: Аграновский оценил данные ВС о численность тюремного населения
- Боевики «Шквала» пытаются массово дезертировать с позиций в Запорожье
- Замглавы МИД Рябков: целевых контактов с США по Ирану нет
- Политолог: Турция ближе к Ирану, чем к Израилю, но есть опасность ее членства в НАТО
- «СССР показан мельком»: Грымов раскритиковал недопуск фильма «Нюрнберг» к прокату
- Американист сообщил о непопулярной версии убийства Хаменеи
- Женщины России рассказали о самом лучшем подарке на 8 Марта
- Стало известно, кому нельзя бананы