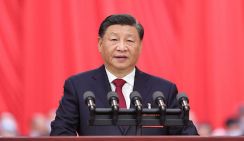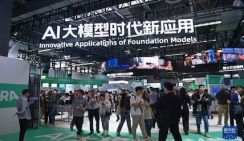«Активы наших диссидентов "морозили" на Западе не только ради их лояльности...»
Сергей Обухов
«Активы наших диссидентов "морозили" на Западе не только ради их лояльности...»
Сергей Обухов
- СМИ сообщили о новом отчаянном шаге США против Ирана с участием Украины
- Актриса сериалов «Универ», «СашаТаня» и «Склифосовский» погибла в ДТП
- «Сумасшедшие»: заявление Кремля о ядерном оружии в Финляндии напугало Запад
- «Полное уничтожение»: Трамп анонсировал очень сильный удар по Ирану
- Иран поразил центр спутниковой связи и радары на авиабазе США в ОАЭ
- Американскому журналисту грозит 20 лет тюрьмы в США за слова о Донбассе
- «Унесут с собой в могилу»: Пезешкиан ответил на призывы США к капитуляции
- Сводки с фронта: ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по ВПК Украины
Ницше тронул поводья…
25 августа 1900 года умер немец, которого в России приняли как родного
- Вы совершили путь от червя к человеку, но многое в вас ещё осталось от червя. Некогда были вы обезьяной, и даже теперь ещё человек больше обезьяны, чем иная из обезьян.
«Так говорил Заратустра»
Статью с названием «Философия Ницше в свете нашего опыта» когда-то (после проигранной немцами Второй Мировой) написал Томас Манн. Но у нас свой опыт. В том числе — литературный.
… В жизни мне встречалось не так много ницшеанцев. Один из них — бледнолицый паренек по имени Данила. Как-то его любимый микс — героин и водка — оказался несовместимым с жизнью. Больше о нем нечего сказать. Другой был банкир, ветеран спецлужб, натура артистическая и авантюрная. Кроме Ницше, он верил Марксу. Ну и, конечно, великолепный Лимонов, который говорил так: «В стенах военной тюрьмы, в плену, я говорю жизни „да“, я с Ницше. Сегодня мой сокамерник Алексей сказал: „Я встану на колени только перед Богом“. А я и перед Богом не встану на колени. Таковы уроки Ницше».
Русский след
«Ницше почтили потому, что он был немец, и притом — страдающий (болезнь). Но если бы русский и от себя заговорил в духе: „Падающего еще толкни“, — его бы назвали мерзавцем и вовсе не стали бы читать», — писал Розанов.
Вообще-то у Ницше так: «О, братья мои, разве я жесток? Но я говорю: что падает, то нужно еще толкнуть!». То есть «Падающее подтолкни». Но цитируют его обычно в безжалостной версии, и тому есть основания.
И еще: Ницше не считал себя немцем, он считал себя ну не то что русским — славянином. С гордостью рассказывал семейную легенду — о том, что род его идет от польского князя Ницкого: «Я чистокровный польский дворянин, без единой капли грязной крови, конечно, без немецкой крови». Мог, правда, и заявить: «С другой стороны, я, может быть, больше немец, чем им могут быть нынешние немцы, простые имперские немцы…» (Э.Паунд называл его тевтополяком) Ему нравилось, когда за границей его принимали за поляка. В отрочестве он горько оплакивал взятие Севастополя англо-французской армией во время Крымской войны, «так как любил всех славян и ненавидел революционных французов» (пишет его биограф Д. Галеви). В юности — перекладывал на музыку стихи Пушкина. Получались романсы.
Славян Ницше ставил высоко и в политическом плане. Предрекая в будущем союз европейских народов, утверждал: «Власть делят славяне и англосаксы. Европа — в роли Греции под владычеством Рима». Или в другой интересной конфигурации: «Мыслитель, на совести которого лежит будущее Европы, […] будет считаться с евреями и с русскими как с наиболее надежными и вероятными факторами в великой игре и борьбе сил».
Во второй половине 1880-х, «когда начиналась слава русских романистов, Ницше интересовался поэтами этой новой, сильной и тонко чувствующей расы, обаяние которой всегда действовало на него» (Д.Галеви). «Целиком и полностью верю Вам в том, что именно в России можно воспрянуть духом…» (из письма Г. Брандесу
Открыв случайно «Записки из подполья», этот «жуткий и жестокий образчик высмеивания максимы […] набросанный, однако, с некоторой лихостью и упоением превосходства силы», Ницше почуял «инстинкт сродства».
В «Записках из Мертвого дома» он находил подтверждение своим представлениям о преступниках как о сильных людях, попавших в беду. Он внимательно читал «Идиота» и конспектировал «Бесов». Да и сам будто вышел из поношенного костюма Роди Раскольникова. Или из исповеди Ипполита Терентьева (см. роман «Идиот»). А может быть, отсюда: «Жалеть! Зачем меня жалеть! — вдруг завопил Мармеладов, вставая с вперед протянутой рукой…- Да! Меня жалеть не за что! Меня распять на кресте, а не жалеть! Но распни, судья, распни и, распяв, пожалей его!»
«Достоевский — это единственный психолог, у которого я мог кое-чему научиться; знакомство с ним я причисляю к прекраснейшим удачам моей жизни», — говорил Ницше. И еще: «…странно, но я ему благодарен, хотя он неизменно противоречит моим самым сокровенным инстинктам». Русский писатель, несмотря на сродство, и в самом деле — противоречил. Для Достоевского «Сострадание есть высочайшая форма человеческого существования…». А у Ницше так: «Что вреднее всякого порока? — Деятельное сострадание ко всем неудачникам и слабым — христианство». Последнее искушение Заратустры — это как раз искушение состраданием, которое он выдерживает с честью — на крики о помощи не ведется.
Притом само страдание он считал аристократичным: «Глубокое страдание облагораживает; оно обособляет». «Культ страдания, великого страдания — разве не знаете вы, что только этот культ вел до сих пор человека ввысь». Он много страдал, он падал, его поддерживали и ему сострадали. Свои страдания он учился переносить с «русским фатализмом».
Но вот почему он решил, что сострадание — это своего рода сладострастие, что «вид страдания доставляет удовольствие, причинение страдания доставляет еще большее удовольствие» — сказать трудно.
Оба они, Достоевский и Ницше, любили Христа. Каждый по-своему. Любовь Ницше была причудливой. Он называл Его «идиотом» (хочется верить — думая о романе Достоевского) и «интересным decadent». Сожалел о том, что рядом с Христом «не было какого-нибудь Достоевского […] того, кто умел ощущать захватывающую прелесть в сочетании болезненного, возвышенного и детского». Притом считал Христа самым благородным человеком и единственным христианином.
Ницше происходил из династии лютеранских пасторов и когда-то собирался пойти по тем же стопам. Изучал теологию и вдруг решил возвратить билет. Разуверился. Да так, что разоблачал, обличал и слал проклятия христианству яростно и непрерывно. Атеизм, говорил он в «Ecce homo» (1888), «вытекает у меня из инстинкта».
Ему нравился «Герой нашего времени»: «Совершенно чуждое мне состояние — эдакая западноевропейская пресыщенность: описано совершенно очаровательно, с русской наивностью и подростковой умудренностью…» Владимир Соловьев, кстати, считал Ницше «ближайшим преемником» Лермонтова обуреваемым теми же демонами кровожадности, нечистоты, гордости.
Из «Отцов и детей» Ницше извлек «нигилизм петербургского фасона», «что означает истовую веру в неверие, готовую принять за это любые муки». В его словоупотреблении — нигилист (почти) то же, что декадент.
Гоголя он ставил в ряд великих поэтов (вместе с Байроном, Мюссе, По, Леопарди, Клейстом). Толстого, как и Христа, называл декадентом. С азартом конспектировал его книгу «В чём моя вера?». А потом, работая над «Волей к власти», пересказывал кусками.
Был еще русский философ с необычным именем Африкан Шпир (1837−1890), чью работу «Мышление и реальность» Ницше проштудировал. В «Человеческом, слишком человеческом» (1878) он говорит о Шпире как о «выдающемся логике», не называя его по имени, но благосклонно цитируя. Толстой тоже высоко ценил Шпира, с которым они вместе обороняли Севастополь.
Но не только книги мостили Ницше путь к России. Он чуть было не женился на старшей дочери Герцена Натали, вроде бы она ему подходила во всём, кроме возраста: «Но и ей 30 лет, было бы лучше, будь она лет на 12 моложе». С творчеством отца несостоявшейся невесты он тоже был неплохо знаком.
А в 1882 году образовался любовный треугольник, не первый в жизни Ницше: он был влюблен в жену Вагнера Козиму. На этот раз стороны треугольника, кроме Ницше, составили 20-летняя Лу Саломе, дочь русского генерала, и его друг, философ Пауль Рэ. Их отношения позиционировались как чисто дружеские: они предполагали жить коммуной (как какие-нибудь социалисты!) и духовно воспарять и/или заглядывать в бездны.
Ницше восхищался Лу: «…ее чуткость к моему способу мыслить и рассуждать поразительна»; «…она зорка, как орел, и храбра, как лев, при этом она еще совершенный ребенок, которому, может быть, не суждено жить долго». Ему нравилась наивность Лу, в которой «для наблюдателя — так много очарования! Умна она необычайно …». Они вели долгие разговоры. Она читала Ницше «Демона» и «Мцыри».
Сестра Ницше, Элизабет Фёрстер-Ницше, рассказывала, что брат, слушая повесть «Первая любовь» Тургенева, обратил внимание на эпизод с хлыстом («Зинаида вздрогнула, молча посмотрела на моего отца и, медленно поднеся свою руку к губам, поцеловала заалевшийся на ней рубец».) Отсюда вроде бы и происходит фраза, которую некая старушка дарит Заратустре: «Идешь к женщинам? Не забудь плетку!»
Но возможно, у этой знаменитой плетки иное происхождение: известна фотография, где Лу с плеткой (с хлыстом) сидит в повозке, которую должны везти Ницше и Паул Рэ… Чистой дружбы у них не получилось: оба они влюбились в Лу, звали ее замуж, ревновали ее друг к другу. «Только русские могли выдумать такую несуразицу и бесстыдство, как эта ваша жизнь втроем!», — возмущалась Элизабет. Правда, Лу уверяла, что не спала ни с Ницше, ни с Рэ.
Меньше чем через год их тройственный союз распался — во многом благодаря интригам Элизабет. После расставания Ницше называл Лу «воплощением абсолютного зла». Писал сестре то ли с сарказмом, то ли восхищаясь: «…она [Лу], так же как и Рэ, обладает одним чрезвычайно привлекательным для меня свойством, а именно — полнейшим бесстыдством в отношении себя, мотивов своих поступков
Переживая разрыв, Ницше начал с огромной скоростью писать «Заратустру» Часть первая была написана за 10 дней. Некоторые исследователи считают, что именно Лу стала прототипом Заратустры, хотя этот перс являлся ему и раньше — в глюках. Так или иначе, но Ницше, опять же в письме к сестре, подчеркивал: «…из всех знакомств наиболее ценным и продуктивным было с г-жой Саломе. Благодаря ему я написал „Заратустру“» В автобиографии «Ecce Homo», рассказывая о том, как он сочинял музыку к «Гимну жизни», пояснял с трогательным благоговением: «Текст […] есть изумительное вдохновение молодой русской девушки, с которой я тогда был дружен, — фрейлейн Лу фон Саломе».
Вопреки опасениям Ницше, Лу прожила достаточно долгую жизнь (1861−1937). В 1894-м она выпустила книгу «Фридрих Ницше и его творчество». А позже — воспоминания о нем — «Опыт дружбы». (Потом она дружила с Рильке. Потом с Фрейдом. И о них тоже оставила воспоминания.)
3 января 1889 года в Турине Ницше увидел, как страдает лошадь, которую бьет извозчик. Он подбежал, обнял несчастное животное и заплакал (он ведь был кавалеристом). Получилось очень по-русски. Будто эта лошадь от Некрасова («Под жестокой рукой человека…», 1859) попала в сон Раскольникова (1866), оттуда в Турин, к Ницше. И уже оттуда — к Маяковскому («Хорошее отношение к лошадям», 1918).
Такого испытания состраданием Ницше не смог выдержать. Оставшиеся годы жизни (до 25 августа 1900 года) он провел по ту сторону разума: почти ничего не помнил и не понимал. И не мог знать, как его сочинения встретили в России, в этой привлекательной (особенно издалека) и так много обещающей стране…
Фон Корен и другие
Несмотря на препоны и рогатки цензуры, Россия приняла Ницше — сначала в пересказах, потом в переводах — как родного. «Ницше — ты наша милая, цыганская песня в философии!», — упоенно восклицал Андрей Белый. А вот симпатичная цитата из его «Симфонии» (2-й, драматической, 1902): «Из магазина выскочила толстая свинья с пятачковым носом и в изящном пальто. Она хрюкнула, увидев хорошенькую даму, и лениво вскочила в экипаж. Ницше тронул поводья, и свинья, везомая рысаками, отирала пот, выступивший на лбу».
Ницше тронул поводья — и покатилось. Воздух в России насквозь пропитался Ницше. «Несчастный немецкий мыслитель» (как называл его Михайловский) пришёлся здесь очень кстати и потеснил Маркса и Толстого. Рождение трагедии (да чего угодно!) из духа музыки (в музыке снимается обманчивый внешний покров видимых явлений и открываются тайны сущности мира), Аполлон и Дионис, художник как сверхчеловек, сверхчеловек как таковой, вечное возвращение…
В качестве «крестного отца» Серебряного века (Н. Орбел) Ницше освящал самые разудалые порывы и настроения, придавая им романтическую возвышенность и интеллектуальную респектабельность. Стиль Ницше, его идеи/мысли — этически рискованные, но эстетически привлекательные — формировали дух времени. Потому что они соответствовали духу места. Так, Пастернак, вспоминая споры своего отца и Скрябина, писал: «Скрябинские рассуждения о сверхчеловеке были исконной русской тягой к чрезвычайности […] все на свете должно превосходить себя, чтобы быть собою».
Символистам подошел Дионис (по Ницше — бог хаоса, экстаза, опьянения). Акмеисты выбрали невозмутимого бога гармонии Аполлона. Футуристы увлеклись переоценкой всех ценностей и новым (сверх-)человеком. Богостроители, опираясь на Ницше, строили Бога. Богоискатели — искали Его. И это несмотря на то, что Ницше давно объявил: «Бог умер!» (иногда, правда, кажется, что его просто повела за собой рифма: «Gott ist tot»; с поэтами это бывает).
Нравился Ницше не всем, но всем был интересен. «С таким философом, как Нитче, я хотел бы встретиться где-нибудь в вагоне или на пароходе и проговорить с ним целую ночь, — пишет Чехов Суворину (25.02.1895). — Философию его, впрочем, я считаю недолговечной. Она не столь убедительна, сколь бравурна». (А вот еще совпадение: рассказ Чехова «Припадок» (1888) напоминает историю, случившуюся с Ницше, когда он, будучи студентом, случайно попал к проституткам и чуть с ума не сошел от ужаса.)
Толстой знал Ницше лучше, чем Ницше Толстого. Особо отмечал главку «О ребенке и браке» в «Заратустре». Но в целом не принимал. «Читал Ницше „Заратустра“ и заметку его сестры о том, как он писал, и вполне убедился, что он был совершенно сумасшедший, когда писал, и сумасшедший не в метафорическом смысле, а в прямом, самом точном […] Каково же общество, если такой сумасшедший, и злой сумасшедший, признается учителем?», — записывает Толстой в дневнике (29.12.1900).
Николай Федоров, автор безумной утопии воскрешения мертвых, уличал «философа черного царства», как он называл Ницше, в трусости: «Ты храбр только там, где нет никакой опасности; когда и без тебя столькие покинули Христа, ты храбро превозносишь Антихриста». Он заметил такую особенность философии Ницше — «устанавливать цель жизни, управлять жизнью». Ницше «стремился не столько к тому, чтобы понять мир, сколько к тому, чтобы преобразовать его», — свидетельствовал и друг философа Петер Гаст (т.е. Ницше будто исполнял завет Маркса: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»).
В рядах литературных персонажей Серебряного века ницшеанцев больше, чем, скажем, марксистов и толстовцев. Или, может быть, они более заметны. Это, конечно, не значит, что все писатели, выводившие этот характер, были от него в восторге.
Почти идеальным ницшеанцем можно назвать фон Корена из «Дуэли» (1891) — вне зависимости от того, имел ли в виду Чехов сверхчеловека Ницше или просто списывал этого персонажа с Владимира Вагнера, зоолога и социал-дарвиниста. Фон Корен, как Заратустра, выше страстей человеческих, им движет рациональное преставление о пользе — и ничего личного. У него «рука бы не дрогнула», если бы ему велели уничтожить слабого и бесполезного Лаевского, в терминологии Ницше — лишнего (это совсем не то, что лишний человек в нашей литературе). О лишних его Заратустра говорит жестко: «Некоторым не удается жизнь: ядовитый червь гложет им сердце. Да приложат они все силы свои, чтобы смерть лучше удалась им! […] Слишком много живущих, и чересчур долго держатся они на ветвях жизни своей. Пусть же придет буря и стряхнет с дерева всех этих гниющих и червивых!».
Да, Ницше не говорил: «Падающего подтолкни», — он говорил: «Слабые и неудачники должны погибнуть: первое положение нашей любви к человеку. И им должно ещё помочь в этом» («Антихристианин», 1888). Примечательно, что на рассуждения фон Корена о необходимости «уничтожения хилых и негодных», доктор Самойленко несколько раз повторяет: «Это тебя, брат, немцы испортили! Да! Немцы!»
Доктор Самойленко и встаёт на защиту этого лишнего от уничтожения в имя цивилизации и человечества («Если людей топить и вешать, то к черту твою цивилизацию! К черту человечество!»). И дело не только в гуманизме, и даже не в том, что Самойленко добр и сострадателен. Если рассуждать цинически, то зоолог должен понимать, что то, что кажется бесполезным, имеет свой смысл и свою пользу. Что всё предельно рассчитанное — без неисчислимого остатка — приводит к последствиям, противоположным тем, на которые рассчитывали. Это относится и к безумному рационализированию (или к рационализированному безумию) утопии Ницше.
Леонид Андреев воспринял смерть Ницше в 1900 году как личную утрату. Но его «Рассказ о Сергее Петровиче» (1900), написанный чуть раньше, свидетельствует, по меньшей мере, о неоднозначном отношении к Ницше. Герой рассказа — тот самый лишний, или (согласно русской литературной традиции) маленький человек, которого вдруг перепахивает «идея сверхчеловека и все то, что говорил Ницше о сильных, свободных и смелых духом». И бьётся он в безнадёжных попытках преодолеть свой удел заурядности. Подсказка приходит от Заратустры: «Если жизнь не удается тебе, […] знай, что удастся смерть». Решив, «что смерть его будет победою», Сергей Петрович кончает жизнь самоубийством.
Ещё один ницшеанец Андреева — безумный доктор Керженцев (рассказ «Мысль», 1902), психопат и убийца, возомнивший себя сверхчеловеком, которому «всё можно». А в пьесе «Дни нашей жизни» (1909) Андреев посмеивается над апологетами Ницше — там один персонаж называет Ницше мещанином, другой возмущается: «Ты не имеешь права так говорить […] Этот великий гениальный Ницше, этот святой безумец, который всю свою жизнь горел в огне глубочайших страданий, мысль которого вжигалась в самую сердцевину мещанства…»
«Пьяной проповедью о сверхчеловеке» называл речи Заратустры Куприн. Поэтому, наверное, в его «Поединке» (1905) ницшеанствует полковой пьяница Назанский: «Ух, ненавижу! Ненавижу прокаженных и не люблю ближних […] И вот, говорю я, любовь к человечеству выгорела и вычадилась из человеческих сердец. На смену ей идет новая, божественная вера, которая пребудет бессмертной до конца мира. Это любовь к себе, к своему прекрасному телу, к своему всесильному уму, к бесконечному богатству своих чувств». Ницше, как известно, призывал любить не ближних, а дальних, заботиться не о душе, а о теле. А также — проповедовал и демонстрировал любовь к себе, иногда называя ее эгоизмом.
Другой алкаш и циник, Осадчий, поет осанну «настоящей свирепой беспощадной войне» — «В средние века дрались — это я понимаю. […] Ворвались. Кровь и огонь. У бочек с вином выбиваются донья. Кровь и вино на улицах. О, как были веселы эти пиры на развалинах! Женщин — обнаженных, прекрасных, плачущих — тащили за волосы. Жалости не было». Ср. с Ницше: «…в те времена, когда человечество не стыдилось еще своей жестокости, жизнь на земле протекала веселее, чем нынче, когда существуют пессимисты … Стремясь попасть в „ангелы“, человек откормил себе испорченный желудок и обложенный язык, через которые ему не только опротивели радость и невинность зверя, но и сама жизнь утратила вкус…» («Генеалогия морали», 1887).
Войну Ницше считал благом: «Не цель благая оправдывает войну, а благо войны оправдывает всякую цель»: «Отказываясь от войны, вы отказываетесь от великого в жизни». Надо сказать, что сам он от войны не отказывался. В 1867 году пошел служить в кавалерию полка полевой артиллерии. После травмы, полученной при прыжке на лошадь, его демобилизовали. А в 1870-м, с началом Франко-прусской войны, он, уже профессор Базельского университета и человек без гражданства (от которого он, правда, отказался, дабы призыв на службу не отвлекал его от преподавания), просил отправить его на фронт «в качестве солдата или санитара». Сопровождая транспорт раненых, он заразился дизентерией и дифтеритом и чуть было не умер.
Война ужаснула его: «Об этом не надо говорить, это невозможно; нужно гнать от себя эти воспоминания!». Но тогда же, глядя на войска, мчащиеся в атаку и, возможно, к гибели, он испытал необычайный подъем: «я ясно почувствовал, что сильнейшая и высшая воля к жизни находит свое выражение не в жалкой борьбе за существование, но в воле к битве, к власти и превосходству!..».
Образцовым, без изъянов ницшеанцем может считаться Санин Арцыбашева (1907). Как и Ницше, Санин защищает тело перед духом: «Мы заклеймили тела животностью, стали стыдиться их, облекли в унизительную форму и создали однобокое существование… Те из нас, которые слабы по существу, не замечают этого и влачат жизнь в цепях, но те, которые слабы только вследствие связавшего их ложного взгляда на жизнь и самих себя, те — мученики: смятая сила рвется вон, тело просит радости и мучает их самих…»
Как и Ницше, Санин ругает христианство: «Оно обмануло сильных, которые могли бы сейчас, сегодня же, взять в руки свое счастье, и центр тяжести их жизни перенесло в будущее, в мечту о несуществующем, о том, что никто из них не увидит…»
Арцыбашева обвиняли в порнографии, в пропаганде половой распущенности и свободы от морали. Самому же писателю его герой нравился; понравился он и читателям, особенно молодым — Санину подражали. И Блоку понравился: «Утреннее чувство заражает читателя. Вот — в Санине, первом „герое“ Арцыбашева, ощутился настоящий человек, с непреклонной волей, сдержанно улыбающийся, к чему-то готовый, молодой, крепкий, свободный».
Есть мнение, что незамысловатая беллетристика — вроде сочинений противника Ницше Боборыкина или, наоборот, его апологета Вербицкой — способствовала вульгарному (неправильному) пониманию идей Ницше. На практике это приводило к тому, что самая тривиальная уголовщина чистила себя под флагом Ницше. То есть идея попадала на улицу, не будучи вроде бы для улицы предназначенной. Но тут запятая… Ницше предупреждал, что дышать разряженным (высотным) воздухом его сочинений могут «немногие счастливцы». Но всё-таки «Так говорит Заратустра» имеет подзаголовок: «Книга для всех и ни для кого». И сама ее форма, пародирующая Новый Завет, тоже ведь расчет если не на всех, то на многих. Не говоря уже о том, что Ницше, в заботе об аудитории, создал путеводитель по своему творчеству — «Ecce Homo». Где, кстати, объяснил, что пишет в расчете на человечество.
Что до уголовщины, то Ницше романтизировал преступников (так же, как Маркс романтизировал пролетариат). Уголовщина, преступление есть, с точки зрения Ницше, поступок. Ибо «почти во всех преступлениях выражаются как раз те свойства, которые не должны отсутствовать в мужчине». Этот романтизм принимал порой кровавый оттенок: «Но ради чего убил этот преступник? Он хотел ограбить. Но я говорю вам: душа его хотела крови, а не грабежа — он жаждал счастья ножа!»
О преступниках он рассуждал как социалист — по принципу «среда виновата» («Тип преступника — это тип сильного человека при неблагоприятных условиях, это сильный человек, сделанный больным»). И в этом он тоже шел против христианства (ведь Бог дал нам, кроме разума и бессмертной души, свободу выбора) и против Достоевского («Ведь эдак мало-помалу придем к заключению, что и вовсе нет преступлений, а во всем «среда виновата»). При этом Ницше любил ссылаться на Достоевского, считая, что тот «нашел сибирских каторжников … исключительно тяжких преступников… — как бы выточенными из самого лучшего, самого твердого и драгоценнейшего дерева, какое только растет на русской земле».
Так что реплика Симеонова-Пищика в комедии «Вишневый сад» (1903): «Ницше… философ… величайший, знаменитейший… громадного ума человек, говорит в своих сочинениях, будто фальшивые бумажки делать можно» — даже и не пародия вовсе.
Социалисты и поэты
Русским социалистам Ницше не очень нравился. Они видели в его идеях «новейший индивидуализм», который «является протестом против поступательного движения м а с с ы, поскольку в нем сказывается не опасение за права личности, а боязнь за классовые п р и в и л е г и и» (Плеханов). Критиковали за «сверхчеловека», за «культ страдания». А также — за кастовое деление в «идеальном обществе Заратустры» (построенном, кстати, на манер Платонова «Государства» и Спарты), за «мораль господ» и «мораль рабов» (Троцкий).
Ленин, по утверждению А. Авторханова, был «необыкновенным большевиком, который в одной руке держал Маркса, в другой — Ницше, а в голове — Макиавелли». Может, и так. Но и Ленин осуждал философию Ницше «с ее культом сверхчеловека, для которого всё дело в том, чтобы обеспечить полное развитие своей собственной личности […] эта философия есть настоящее миросозерцание интеллигента, она делает его совершенно негодным к участию в классовой борьбе пролетариата» («Шаг вперед, два шага назад», 1904). И еще мог прокричать: «Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков!» («Партийная организация и партийная литература», 1905).
Для социалистов были неприемлемы «аристократический радикализм» Ницше (Г.Брандес), его презрение к массам (к стаду, как выражался сам философ, следуя, впрочем, в этом за Иисусом), к идее равенства
Впрочем, социалисты-богостроители восторгались Ницше и пытались скрестить его с Марксом. В этом была логика, у двух гигантов мысли было кое-что общее: агрессивный «штурм неба» — нападки на христианство; стремление не столько объяснить, сколько изменить мир; классовая/кастовая мораль
Одного из богостроителей — Горького — принято держать за истового ницшеанца. В подтверждение этому обычно приводят его письмо к Ф. Батюшкову с цитатой из «Заратустры»: «…верю, что „человек есть нечто такое, что должно быть превзойдено“, и верю, верю — будет превзойдено!» (октябрь 1898). А также отзывы и свидетельства современников.
«Сначала мы думали, что босяки-то уж, по крайней мере, — самобытное явление. Но когда пригляделись и прислушались, то оказалось, что так же точно, как русские марксисты повторяли немца Маркса, и русские босяки повторяли немца Ницше. Одну половину Ницше взяли босяки, другую наши декаденты-оргиасты», — усмехался Мережковский («Грядущий Хам», 1906).
Слух о ницшеанстве Горького шел такой мощный, что дошел до Элизабет Фёрстер-Ницше, и она в 1906 году пригласила писателя посетить Архив Ницше в Веймаре. По каким-то причинам Горький не мог туда поехать, но сам факт приглашения — симптоматичен.
Тем не менее, с ницшеанством Горького не всё просто. Его называли «самородком-ницшеанцем» и «бессознательным ницшеанцем» — последнее, наверное, правильно. Можно считать (стихийными) ницшеанцами таких его героев, как цыгане Зобар и Радда («Макар Чудра», 1892), эгоистичный Ларра, сын женщины и орла, и не щадящий себя ради других Данко («Старуха Изергиль», 1895) — красивых, сильных, гордых, свободолюбивых и своевольных. Безусловно ницшеанские — в хорошем смысле слова — безбашенные и отважные птички из его «Песен». Можно даже его пафосную поэму «Человек» (1903) рассматривать как панегирик самому Ницше: «Идет он, орошая кровью сердца свой трудный, одинокий, гордый путь, и создает из этой жгучей крови — поэзии нетленные цветы… Идет! В груди его ревут инстинкты; противно ноет голос самолюбья, как наглый нищий, требуя подачки … Он знает всех в своей бессмертной свите, и, наконец, еще одно он знает — Безумие… Крылатое, могучее, как вихрь, оно следит за ним враждебным взором и окрыляет Мысль своею силой, стремясь вовлечь ее в свой дикий танец…»
Но вот уже монолог пьяного Сатина: «Чело-век! Это — великолепно! Это звучит… гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека! Не жалеть… не унижать его жалостью… уважать надо!» — в первой своей части есть спор с Ницше, который вовсе не считал, что всякий «человек — это великолепно» (см., например, эпиграф). Во второй же части, про жалость, — вроде бы согласие с Ницше, с его отношением к состраданию, но как бы с другой стороны («На дне», 1902).
Отрицательный образ ницшеанца — купец Маякин из «Фомы Гордеева» (1899). Этот купец тоже рассуждает о лишних — он называет их шибздиками, которых «настоящие, достойные люди» могут стряхнуть с земли, «как червей с дерева» (ницшевский образ). (Спустя много лет Горький объяснял: «Я приписал Якову Маякину кое-что от социальной философии Фридриха Ницше»).
Гумилев строил свою жизнь будто по завещанной Ницше аmor fati — любви к року. Он интересовался Ницше, увлекался им, но даже те его стихи, которые считаются ницшеанскими («Песнь Заратустры», «Люди настоящего», «Люди будущего», «Иногда я бываю печален…» — все 1905), так не воспринимаются — не тот тон. Самое ницшеанское у Гумилева — это, пожалуй, его читатели, «сильные, злые и веселые», «убивавшие слонов и людей», верные «нашей планете, сильной, весёлой и злой» (ср. с верностью земле, проповедуемой Ницше). Равно как и сам поэт: «Я учу их, как не бояться,/ Не бояться и делать что надо» («Мои читатели», 1920).
(Правда, относить любое проявление стойкости/смелости/героизма на счет Ницше, как это нередко делают западные исследователи, — по меньшей мер наивно. В одной хорошей книжке написано, например, что Ахматова мужественно вела себя в сталинские годы благодаря урокам Ницше, полученным через школу акмеизма…)
«Ницше можно сравнить с Христом», — умилялся Андрей Белый. «…читал Ницше, который мне очень близок» — писал Блок в письме матери (23.10.1910). Но и в их стихах ничего явно ницшеанского не было. Даже в бодром скандировании Брюсова: «В себе люби сверхчеловека./ Явись, как бог и полузверь», — Ницше распознавался, но не чувствовался.
Чтобы соответствовать Ницше, поэту надо было орать, рвать на груди рубашку, кататься в истерике
О Маяковском напоминают первые же строки «Заратустры»: «и в одно утро поднялся он с зарёю, стал перед солнцем и так говорил к нему: «Великое светило… «« Ср.: «Кричу кирпичу,/ слов исступленных вонзаю кинжал/в неба распухшего мякоть: / «Солнце! /Отец мой!/ Сжалься хоть ты и не мучай…» («Несколько слов обо мне самом», 1913; здесь же одиозное: «Я люблю смотреть, как умирают дети», истоки которого стоило бы тоже поискать у Ницше).
В октябре 1914-го Маяковский, как некогда Ницше, стал записываться добровольцем на фронт, но ему было отказано по причине политической неблагонадежности. Но о войне он сказал — с восторгом, похожим на тот, который выразил Ницше, и с тем же образом войска, идущего в атаку: «Смерть несется на всю толпу, но, бессильная, поражает только незначительную ее часть. Ведь наше общее тело остается, там на войне дышат все заодно, и поэтому там — бессмертие. Так из души нового человека выросло сознание, что война не бессмысленное убийство, а поэма об освобожденной и возвеличенной душе» («Будетляне», 1914). А потом, в стихах, — с ужасом. И споря с презирающим лишних Ницше: «Слышите!/ Каждый,/ ненужный даже,/ должен жить;/ нельзя,/ нельзя ж его/ в могилы траншей и блиндажей/ вкопать заживо -/ убийцы!» («Война и мир», 1915−1916).
Маяковский называл себя «тринадцатым апостолом» («в самом обыкновенном Евангелии»). И так же хотел назвать поэму, но цензура не позволила — и поэма вышла под названием «Облако в штанах» (1915). В ней «проповедует, мечась и стеня,/ сегодняшнего дня крикогубый/ Заратустра».
Достаточно взглянуть на заголовки «Ecce homo» («Почему я так мудр», «Почему я так умен», «Почему я пишу такие хорошие книги»), чтобы убедиться в несомненном родстве Ницше и Маяковского. Его лирический герой тоже в восторге от себя самого, «златоустейшего». Всё, что происходит с ним, самое важное и интересное: «Я знаю — / гвоздь у меня в сапоге / кошмарней, чем фантазия у Гете!». Он переоценивает все ценности:
Славьте меня!
Я великим не чета.
Я над всем, что сделано,
ставлю «nihil».
И вдруг — так неожиданно трогательно! — оговаривается: «мельчайшая пылинка живого/ ценнее всего, что я сделаю и сделал!».
Как Заратустра, Маяковский несет благую весть о приходе нового (сверх-) человека: «И он,/ свободный,/ ору о ком я,/ человек — придет он,/ верьте мне,/ верьте!» («Война и мир», 1915 — 1916).
Как Заратустра (и Санин), он воспевает тело, здоровье и то, что называют «животными инстинктами». Получается смешно:
Среди тонконогих, жидких кровью, --
трудом поворачивая шею бычью,
на сытый праздник тучному здоровью
людей из мяса я зычно кличу! /…/
А сами сквозь город, иссохший как Онания,
с толпой фонарей желтолицых, как скопцы,
голодным самкам накормим желания,
поросшие шерстью красавцы-самцы!
(«Гимн здоровью», 1915)
С Богом Маяковский бодается с той же страстью, что и Ницше. Но, в отличие от Ницше, он не кричит, что Бог умер. И в этом смысле Маяковский последовательнее — потому что если Он умер, то чего так дёргаться по поводу христианства, морали
Поэт весело кощунствует, предлагая Богу устроить «карусель» — с вином и девочками с бульваров. Наскакивает на Него, как пит-бультерьер: «Я думал Ты всесильный Божище./ А Ты недоучка крохотный божик …». Угрожает сапожным ножиком: «Я тебя пропахшего ладаном, раскрою…». Иногда — представляет Его как своего читателя-поклонника:
И Бог заплачет над моей книжкой
Не стихи, а судороги слипшиеся комом
И побежит по небу с нею под мышкой
И задыхаясь будет читать своим знакомым.
Чтобы так обращаться с Богом (к Богу), не нужно быть атеистом. Точнее — никак нельзя быть атеистом. Иначе пропадает пафос и смысл: ведь атеисту некого изобличать и убивать — для него Бога нет.
Ницше в СССР
Дух Ницше не выветрился сразу после Великой Октябрьской Социалистической революции, хотя большевики всеми силами старались его изгнать. Притом их идеология строилась на обломках Серебряного века, и среди этих обломков у Ницше была не последняя роль. К тому же, Горький, к тому же Луначарский и другие «ницшеанствующие марксисты» (Б. Розенталь) бросали в общий котел идеологии свои вкусы, пристрастия, интересы. Есть на этот счет и более категоричное мнение. Так, В. Кантор пишет: «[Федор] Степун был уверен, не раз говоря, что на самом деле тайным учителем большевиков были не Маркс с Энгельсом, а Фридрих Ницше с его „волей к власти“, „философствованием молотом“ и заклинательной стилистикой его текстов».
Действительно, советские лидеры были в некотором роде латентными ницшеанцами. С одной стороны, они обрушивали на экстравагантного немца всю мощь пропагандистского аппарата — вот названия книг, которые тогда выходили: «Ницше и финансовый капитал» М. Лейтейзена (1928) с предисловием б. ницшеанца-богостроителя Луначарского; «Философия Ницше и фашизм» Б. Бернадинера (1934); «Ницше как предшественник фашистской эстетики» Г. Лукача (1934)
Доказательством того, что идеи Ницше никуда не исчезли, м
- «Остановитесь»: Орбан ответил на хамство Зеленского
- «Полное уничтожение»: Трамп анонсировал очень сильный удар по Ирану
- Актриса сериалов «Универ», «СашаТаня» и «Склифосовский» погибла в ДТП
- В Киеве принудительно мобилизовали 140-килограммового мужчину с болезнями сердца
- Отопление не по графику: прокуратура снова разбирается с многолетней проблемой в замерзающем поселке Югры
- В Магнитогорске многодетная мать родила 12‑го ребенка — врачи назвали это уникальным случаем
- Иран поразил центр спутниковой связи и радары на авиабазе США в ОАЭ
- Не опасаясь оценки или последствий: Эксперт о позиции детского психолога в школах
- Продавец из Красноярска полгода выносил с работы технику, чтобы продавать на улице
- Разбили стекло и рылись в багажнике: подростки в Омске разгромили чужую машину