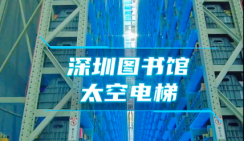«Пропускная способность БАМа и Транссиба уже на пределе своих возможностей…»
Леонид Хазанов
«Пропускная способность БАМа и Транссиба уже на пределе своих возможностей…»
Леонид Хазанов
- В Киеве заявили о возвращении 1212 тел погибших военных
- Зашло слишком далеко: Илон Маск извинился перед Дональдом Трампом
- Глава СБУ Малюк: Украина готовит новые удары по территории России
- Трамп ответил, сможет ли он помириться с Маском
- Названа ошибка, которая уносит жизни
- ABC: В Лос-Анджелес согнали больше военных, чем в Ирак и Сирию
А в речке мертвый голубь спал…
О чем поет Михаил Елизаров?
Михаил Елизаров — один из лучших современных прозаиков. Он вроде бы с «новыми реалистами» — но совсем не реалист. Если в литературном плане он возрождает традиции модернизма — так «модернисты» сейчас вроде все либералы, Елизаров — социалист. И уж совсем непонятно, зачем прозаику понадобилось петь. Мечты стать оперным певцом в юности? Так ведь это внешнее. Песни же, от первого альбома «Добрый маньяк Тихон» до последнего, «Мы вышли покурить на 17 лет…» — правильнее будет числить не по музыкальной, а по литературной части.
Вроде бы не пристало русскому писателю петь. Поэтическое представление золотого века русской поэзии о поэте как о певце, «на лире вдохновенной рукой рассеянной бряцающем», воспринимается сейчас не более как фигура речи. Хотя… Классическая поэзия, как известно, хорошо ложится на музыку. Современная же — разве только бубнится. Что ж, значит, так тому и быть: таково требование времени…
Однако Михаил Елизаров, взяв в руки не то гитару, не то балалайку — тут нужно обратиться к специалистам за уточнением, — будто бы возражает: нет, братцы, поэзия должна петься. Иначе это не поэзия, а… Кишмиш во рту.
И так миф золотого века русской поэзии о поэте-певце находит свое буквальное воплощение в современности.
О чем же поет сей современный русский скальд?
Начиная с первых своих альбомов, свободно распространявшихся в интернете, Елизаров, как и положено русскому писателю, давал в песнях срез современной России, скорее, в ее Московском изводе — иногда через «маску» персонажа, рассказывающего свою историю от своего выдуманного, несуществующего лица. Иногда обобщенно. Голоса толпы звучали и звучат в песнях автора романа «Библиотекарь». А что можно услышать от русского человека из толпы? Ясно что: нелюбовь к приезжим, богатым, всякого рода извращениям и так далее (ненавидеть людей, конечно, нехорошо…). Темы эти так часто поднимаются в песнях Елизарова, что нельзя не заподозрить, что он на них немножко чрезмерно, может быть, сконцентрировался. — Впрочем, формально обвинить его в ксенофобии не выходит: ведь, беря срез толпы, в ней именно это по большей части и обнаружишь: мы просто слишком мало знаем, о чем думают и говорят люди на улице, а тем более за углом.
Так, в одной из первых песен, «Девушка с проспекта мира» мы становимся слушателями душещипательной истории о девушке, которую, несмотря на богатую квартиру в Москве, никто не хочет не то что брать замуж, но просто пригласить поужинать: мужиков нет-с. Оно, конечно, какая девушка, такие и мужики. Но, как и полагается в произведении искусства, если угодно — поэзии, — ситуацию можно повернуть и так, и сяк. Девушек нет, мужиков нет. А кто есть? Так Елизаров начинает развертывание своей карты практически тотальной развращенности русского общества в его подавляющей массе. Далее следуют песни «Проси!» («Дорогая, я тебя люблю, но раньше улыбнись, а потом проси»). «Не додумалась встать на колени» (Пригласивший возлюбленную в гости герой неловким движением порвал единственный презерватив и, закрыв за девушкой дверь, мечтает — нет, не о следующей встрече, но о том, что указано в названии песни: второй встречи их дружба не предполагает). «Дети и гашиш» (Приезжий из, как он сам утверждает, Беларуси, продает детям легкие и тяжелые наркотики: они «С лета прошлого конца сидят на марафете…») Карта разврата развернута песенно широко, сочно — но, как всякая карта, уступает все-таки реальности.
Но рассмотрим как следует последний альбом, «Мы вышли покурить на 17 лет…» (Отдельно хочется отметить совпадение названия с названием недавно вышедшего сборника рассказов того же автора, но связь альбома и книги пусть будет хлебом для других). Безусловно, этот альбом уже — своеобразный сборник историй, цикл, объединяющий исполненные под музыку как сюжетные истории, так и лирические «поэзы». Но о чем же этот цикл, какова стержневая линия его повествования?
Примеряя разные маски, Елизаров рассказывает несколько историй. Историй простых москвичей, поневоле живущих по установленным современным миром правилам.
Вот юноша и девушка решили привнести новую свежую струю в свою еще не ставшую, и видимо, никогда не станущую семейной жизнь: отправились на свингер-вечеринку: «В этом клубе мне не нравится, в этом клубе можно обалдеть… Остановите свингер-пати, другого любит мая Катя, и будто на меня плевать ей». Странно, ведь им пообещали, что будет хорошо и жизнь заиграет новыми красками — а вышло-то совсем иначе: «Пусть летят на ваши головы убивающие стингеры. Я хочу, чтобы все умерли, чтобы умели все свингеры…» «Остановите, остановите: конец мечте о дольче вите: Остановите свингер-пати, взять молоток и покарать всех».
Приехавший в Москву украинец поселяется у молодой москвички, она даже защищает его от скинхедов, принявших ее гражданского мужа за «понаехавшего». Он обещает ей жениться — но находит лучший вариант: «Он сказал мне тихо, осторожненько, карих глаз не прятал от стыда — мол, нашел он бабу на Остоженке и переезжает он туда». Финал заранее предопределен: «Топором в лицо убила я его, он упал зарубленный в траву… Жили мы на станции Беляево, а теперь в Коньково я живу…»
Вообще, квартирный вопрос не только портит людей до сих пор, но и просто рушит жизни. Особенно в семье, когда у одного жилье (заветное московское, но необязательно — вообще жилье) есть, а второму грозит пинок под зад в случае ссоры. Развивая сюжет своей более ранней песни «Отчим», Елизаров показывает, что жизнь «отчима» тоже не слишком-то сладка. Иногородний, приехав в Москву, живет с женщиной у нее, но не может смириться с инстинктивной ненавистью к ее ребенку, видимо, рожденному до их знакомства вне брака, случайно. В песне «Бастард» плохо всем: и ребенку, и матери, и отчиму. Но кто виноват? Виновата ситуация, заставляющая женщину искать — не мужчину даже — «кормильца» себе и своему ребенку в обмен на жилье. Мудрено тут всем друг друга не возненавидеть.
Наряду с картинами падения нравов, но не по вине людей, а по вине навязанных внешних правил, Елизаров «прострачивает» насквозь как сквозной строчкой альбом песнями лирическими, разобраться в которых не так-то просто. Он специально, кажется, внешне мимикрирует под манеру русского горе-рока: вываливать слова в общую кучу, не соединяя их смыслом, как яркие световые вспышки. Можно подумать, что его несюжетные песни — именно набор слов, связанных только по звучанию, этакая «поэтическая бессмыслица».
На деле не так.
Вот песня «Дольщик», вроде бы об обманутом дольщике, вложившим-де в строящийся дом кровные денежки, но обманутом и прогоревшем. Но об ипотеке притом не слова, дольщик вздыхает о доле, а не о квартире. Почему он плачет «в закатных полях», когда «отдыхает народ, грея душу в табачном дыму». И при чем тут вообще то, что над страной «не церковный звенит колокольчик»? Вникая глубже, становится понятно, что песня даже не о приватизации, а вообще — о доле трудового человека, которому его доли в его родной стране не полагается. А почему? Потому что «церковный колокольчик» не объединяет народ на общую жизнь, но каждый «греет душу в табачном дыму» за отдельным столиком и за часто разные деньги.
Интересна вроде бы теряющаяся на фоне остальных, ярких, странная невзрачная песня «Летела речка». «А в речке мертвый голубь спал. А дома плохо, там рев и семечки, там корвалол и карнавал…». «Мертвый голубь» — объединяющая народ духовность, и пока ее нет, родную страну любить грех, но надо хаять. Да и как не хаять, если «Самолет летает, поезд поездит, а к реке крадется кто-то, кто все присвоит». Растлевать-то нравы, оказывается, надо, чтобы за разобщенностью общества присвоить, или, вернее, как поет Елизаров, так сказать, «скоммуниздить» все сливки.
(Так случайно, на первый взгляд, просто «для красоты» звучания набросанные слова, при внимательном рассмотрении оказываются полными скрытых символических значений. Нужно только расфокусировать взгляд и вглядеться в толщу лирического текста, — ведь, как известно, чем удачнее символы, тем шире, порой до удивительной широты, спектр их значений)
Картина, прослеживаемая в альбоме Михаила Елизарова, отдает несколько параноидальным набором настроений в духе «мирового заговора»: есть силы, заинтересованные в моральном разложении общества, чтобы в мутной воде ловить себе филе лосося, приготовленное выписанным из-за границы поваром. Безумие? Узнать, да или нет, боюсь, есть только один способ: попасть на верхушку пирамиды, потому что снизу правды не разглядеть.
У каждой эпохи есть поэт — но в современной ситуации это певец, бард или рок-певец: Окуджава, Высоцкий, Цой, — ухватившие нерв времени и показавшие, где болит, обществу. Можно бы было считать, что русский Цой сегодня — это Ляпис Трубецкой в новом изводе с его песнями «Я верю» и «Капитал»; в любом случае он куда популярнее Елизарова. Но если уж героя этой статьи стал перепевать Сюткин — о популярности можно поспорить; вот только это будет популярность нового андеграунда: когда ничего не запрещают, но все мало-мальски стоящее глушат шумом бессмысленной попсы, или, если говорить о поэзии, бубнежа, попутно в меру сил еще и замалчивая.
Фото из архива Михаила Елизарова
- Галкин с детьми покинул Кипр без Аллы Пугачевой
- Сербия и ЯНАО укрепляют сотрудничество
- Мединский подтвердил обмен телами погибших 1212 на 27
- «Кто лоббирует жидкое мыло?»: Володин усомнился в решениях Роспотребнадзора
- Колокольцев уточнил, какие мигранты должны точно покинуть Россию
- Курган вооружил бойцов СВО «охотниками» за дронами
- Названа ошибка, которая уносит жизни
- Станислав Черчесов может возглавить ЦСКА
- Трамп ответил, сможет ли он помириться с Маском
- Гонка вооружений: Эксперт объяснил, сможет ли ИИ победить хакеров в России