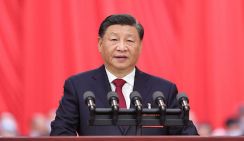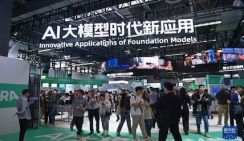«Мы находимся уже в низшей точке для малого и среднего предпринимательства...»
Андрей Бунич
«Мы находимся уже в низшей точке для малого и среднего предпринимательства...»
Андрей Бунич
- Защищает от рака: Мясников назвал самую полезную рыбу
- Озвучен самый простой способ улучшить сон
- Сын первого главы ДНР получил сильные ожоги при взрыве в зоне спецоперации
- МВД предупредило о новой схеме мошенников с «секретными чатами»
- Володин призвал отозвать рекомендации Минздрава о цветной форме для врачей
- Столкновение с детским автобусом на Калужском шоссе: минивэн с мигрантами врезался в стоящую машину
- В Тамбовской области задержан иностранец, бежавший в РФ от армии и призывавший к терроризму
- В Госдуме предрекли переход к четырехдневке
Классик и народ
Игорь Свинаренко навстречу 70-летнему юбилею Александра Кабакова
Вот так все бросаешь и летишь в Днепропетровск, и дело не в том, что охота посмотреть на родину застоя — нет, на кой, от того застоя и так до сих пор тошнит. Да тут и новый накатил, бешеный как электричка.
Тут другая тема.
Летишь же за границу! Ну, для кого-то в заграницу, но не для людей, которые там жили, росли, работали и вообще родились. Раньше это называлось как-то типа «прикоснуться к корням» — или «припасть к истокам», люблю советские термины за их безобидный пафос и легкую, в духе Швейка, придурковатость.
Украина.
Именно там как-то случилось мне встретиться с писателем Кабаковым, который не только классик, но мой старший товарищ. Дело было в Днепропетровске, а это же, как известно, город его молодости. Я там тоже бывал изредка при старом режиме, наезжая из тогдашнего своего Донбасса.
В те времена, живя в УССР, мы не встречались. У нас были разные жизни и разные поколения.
Конечно, про поколения принято думать что они нарублены отрезками по 25 лет, и — похоже, так оно и есть. Родился, то — се, а где-то в районе четвертного размножился, плюс-минус. При том, что 25 — это такой «generation gap», который не перепрыгнуть, отцам и детям не о чем говорить друг с другом, а можно только делить что-то, в смысле спорить из-за матценностей, «вздыхать и думать про себя: когда же черт возьмет тебя?». Последнее, понятно, от лица молодежи, а старикам ждать нечего, все уже про… скажем так, прождано, авторский неологизм. Поколения — это линия отрыва, или даже линия отруба. Но есть еще — оглянитесь вокруг и вы это сами увидите — такая единица измерения как полупоколение, половина из этих 25 лет, год туда-сюда. 12 или 13 или 14 лет, такое нередко, а чтоб 15 я таких случаев не знаю. Ну вот как есть период полураспада. Эту не пропасть, но траншею перешагнуть вполне можно, с приемлемым усилием.
Ну, вот и я с Кабаковым так. Расстояние такое, что при желании можно многое понять, схватить и оценить.
И вот он поехал туда встречаться с читателями. А я тоже был в той делегации, но как репортер.
Насколько я понимаю, это как бы такие гастроли. Не то чтобы чёс, как у музыкантов, которым не хватает дохода с дисков из-за коварных пиратов и которые вынуждены потому добирать своё, мотаясь по провинции. Какие уж тут деньги, у писателей, против рок-музыкантов-то! Но какое-то сходство, наверно, есть… Зачем-то издательства и книготорговцы устраивают эти туры! С другой стороны, издателю какое дело до того, что автор парится в провинциальном дешевом дискомфорте. Всё лучше, чем дома на кухне пить водку перед телевизором ночами; ну нельзя ж каждый день по 8 часов строчить рОманы. Туры эти, да, бывают изнурительными — но выпадают и легкие поездки уровня увеселительных. Раньше, когда писателей катали по БАМу и прочим комсомольским стройкам Сибири и Дальнего Востока, они как раз и веселились, ужиная в вагонах-ресторанах, добавляя в купе СВ и осматривая достопримечательности с вип-размахом.
Туры — тогда были для отмазки, вон, писатели изучают жизнь пролетариата, партия не дает им скиснуть в ресторане ЦДЛ и на дачах в Переделкино! Теперь такие поездки а ля «Горький на Беломорканале» затеваются, чтоб поднять белые тиражи, да и вообще все какие есть. Кругом в отчетах копейки, по итогам издательской деятельности, но отчего-то книжные издатели не толпятся, ох не толпятся пока на папертях сорока сороков…
Конечно, было дико любопытно — что это за встречи такие проходят сегодня. Каков нынче читатель и ценитель изящной — вон, Кабаков же! — словесности, как он встречает этих земледельцев духа, которые прибыли сеять разумное доброе вечное! Может, это слияние близких душ? Плодотворное общение с Аринами Родионовнами, Платонами, Левшами и очарованными странниками? Поди знай, поди угадай заранее… Но мне правда было интересно.
И вот встреча двух цивилизаций состоялась. Есть контакт! В каком-то клубе, в городе Днепропетровске, средь бела, значит, дня. Народ стал вещать, один любитель литературы за другим брал слово:
— Так что ж у вас там в Москве с гонорарами? Большие небось? Вот вы пишете и гонорар получаете. А я слышала, что в Москве заведено так: автор написал хороший роман, отдал его в издательство, оно ему выплатило гонорар — и все, писатель уже авторства не имеет. Так это или нет? Он же продал — и все, получил деньги и уже они подписывают, как хотят, так?
— Почему трудно пробиться таланту, — вон даже украинский аналог Бродского и тот никому неизвестен!
— А вот есть гений, который перевел на закарпатский диалект «Бородино» Лермонтова, что вы скажете об этом? «Зачарована Десна» Довженко — это же уровень Феллини!
— Книга Олеся Гончара «Собор», запрещенный за национализм, — это же авантюрный роман уровня Дюма, почему нельзя позволить снять по нему фильм?
— А вы знаете, что Махно живет в Америке, много пишет на украинском и широко переводится в Москве? (Забегая вперед сразу скажу что Василь Махно действительно живет в Штатах, много пишет, и на русский его переводит наш Максим Амелин. — авт.)
И реплика представителя местной интеллигенции, с места, пообъемней:
— Так получилось, что меня называют украинским Твардовским. Вот я написал 10 томов книг. Одна из них — о призвании. Там у меня рассматривается графомания, и эпигонство тоже, я пишу о засилье и того, и другого. И о постмодернизме пишу, разумеется. Одна моя книга называется просто — «Гонорар». Там рассматриваются отношения писатель-спонсор-читатель. Это очень важно! Потому что, думаю, утратится профессионализм, если не будут платить за тексты. Не знаю, как будут выкручиваться в будущем — ну, да разберутся. Я это понимаю! Я даже написал строки — «ще не вмерла Украϊна без моϊх рецептів». Научатся люди сами, без нас найдут выход. Но чего у нас нельзя отобрать — это нашего творчества. Писать, созидать, делать новое! И компоновать. Вот у меня книга на украинском языке «Дружляндiя» — о дружбе. Так я, конечно, делал ее с душой. Этого удовольствия у меня не отберут! А насчет тех кто читает Донцову и так далее… Тут надо сказать, что переизбыток информации такой страшный! Много писателей, выбрать трудно, жизни на это не хватает. Спасибо вам. С большим бы удовольствием я бы всем свою книгу… — сказал автор. Но у него, к несчастью, был только один экземпляр, который он и положил на стол президиума. И уж как делили раритет, я не знаю, не уследил.
Тему гонорара конечно тут затронули не к добру… Непросто с нее спрыгнуть!
— А вот великие писатели прошлого писали ради жизни, а не для денег.
— Да вы что? Назовите хоть одного великого, кто не писал бы за деньги, — сопротивляется Кабаков.
— Правильно, Достоевский за деньги писал! — подсказывают из зала, в поддержку Кабакова, все ж помнят, что Федор Михалыч много чего написал как раз именно для денег.
Кабаков, меж тем, отвечал на проклятый вопрос украинской жизни: «А куда деться?» Он что-то говорил, разъяснял про гонорары, как мог. Слушали его внимательно, буквально затаив дыхание.
Люди, как вы уже поняли, собрались тут неравнодушные, увлеченные, я бы даже сказал — фанатики, в хорошем смысле слова. Видите, пишут, читают, про гонорары думают, что это бывает только в Москве и то только у классиков, а прочие бескорыстно служат музам, — господи, где еще увидишь таких чистых людей, не наскребешь таких по столицам!
И вот, значит, я тут повел себя с присущим мне цинизмом и влез с вопросом, как бы серьезным, ну, по крайней мере, выражение лица у меня строгое и интонация напряженная: — А как вы считаете, Александр Абрамыч, литература может изменить этот мир — к лучшему?
Он сказал громко «Гм, гм», и я думал, что это весь ответ. Случись такое в нашем разговоре без свидетелей, он бы обругал меня матерно, но ласково, и пожурил бы за то что ничего святого у меня нет, и все я готов простебать словно Андрей Орлов какой. Но тут у него не было свободы маневра, и я мог издеваться сколько угодно, и прикидываться интеллигентом, а высшая стадия, точнее высшая степень этой масти — провинциальный интеллигент. И вот он, значит, сказал двое двукратное «Гм». Которое, впрочем, после короткой паузы принялся расшифровывать свое гмыканье:
— Самим фактом своего существования литература, конечно, меняет мир. Изменить его она может, если, конечно, автор знает куда идти, в какую сторону этот мир менять. Ну, просто придумывая образы, автор как-то меняет и даже ломает читателя. Я считаю, что всякий автор соревнуется с демиургом, с Создателем! Тебе это не по чину, но, если уж ты взялся за это… Если взялся… То ты, может, изменишь мир, но не обязательно к лучшему.
Поехали дальше. Тоже глубокий вопрос, да не вопрос даже а реплика, может, чтоб сделать автору приятное:
— А вот Россия по изданию книг — одна из первых. В мире! Так это ж хорошо! Здорово!
— Не знаю… — ответил Кабаков невесело.
Классическая тема обыгралась тут, «могу/не могу молчать», пишущая дама взяла слово:
— Не, ну скажите — как можно не писать…
— Если хочется писать? — довершает ее фразу Кабаков.
— Если судьба такая? — подхватывает и как бы копает еще глубже читательница. Глубина, глубокое — это были ключевые понятия встреч там с читателями, важней, чем гонорар даже. Видите, писатель — и судьба! Темка. Тема, даже я бы сказал. — Если вы писатель, то как вы можете не писать? — не унималась та и как бы уговаривала автора, типа «пеши исчо».
— То есть вы хотите спросить, как можно не писать, если хочется писать?
— Как вы можете молчать, если хочется сказать?!
— Графоманы тоже пишут! — уместно заорал кто-то из публики.
Писатель пытался что-то ответить сквозь крики, все орали хором и получилось, как на модном русском телешоу, где все друг друга перебивают. НРЗБ, одним словом — так кстати была названа книга, в смысле две книги, разными авторами, и каждый из них уверяет, что он первый придумал, а про второго и знать не знал.
Вот обрывок, который я разобрал:
— Пусть пишет каждый что хочет и сам издает!
И дальше:
— А мне кажется, что бумажная книга изжила себя. В ней есть душа, а в электронной — нету.
— Ничто не изживает себя, — утешал ее классик.
— Значит, судьба такая. Как вы можете молчать?
Непонятно про что молчать, но — прозвучало это неплохо.
— Мой совет — потерпите, — мудро и необидно заметил Кабаков.
— Так уже не хочется терпеть. Да и вот графоману не скажи, чтобы не писал! Хотя мы и не молчим. Вот, у нас есть литературная студия, мы там собираемся и читаем. Стихи и прозу. Пока это так - рано говорить, что литература не умерла, вот мое мнение. Нам говорят — пропала литература. А не пропала она! Конечно, кто-то может над этим смеяться, что вот-де собираются четыре интеллигента и причитают — «ой что делать!» Но это общество отупело, а не интеллигенты! Дело в нас самих…
После дама зачитывает пару своих произведений в жанре «поэзы». В одном из них она верно заметила, что обычно в стихах «нет перечня театров ни вокзалов». Она же и подвела итог дискуссии:
— Хочется пожелать — себе, вам — больше оптимизма!
На том и разошлись.
Мы вышли из зала на улицу, осмотрелись в задумчивости, надо ж что-то делать, писатель еще в Москве подумывал о ностальгической прогулке по городу своей юности — но я осознал вдруг:
— Уже 17 часов по московскому, а мы еще не обедали! Мы должны зайти куда-то перекусить, пойми!
Я достаю из кармана деньги и трясу тонкой пачкой, прикидывая, на какой обед нам можно претендовать с таким бюджетом.
— Посчитай, — говорит мне Кабаков, и я робею, услышав такие слова от выпускника мехмата. И сбивчиво начинаю считать:
— 500… 600…
— Это гривны?
— Само собой. Я тут уже второй день, все знаю, разобрался. 700… 800… 1000. неплохо! 120 долларов.
— На это можно неплохо пообедать. Но это — после.
Мы поймали такси и поехали посмотреть на дом, где жил писатель. И которого он, кажется, сам не видел с глубокой советской власти.
— Значит, на проспект Ильича, и там угол Днепропетровской.
— Только Днепропетровская сейчас по-другому называется…
— А это неважно.
Едем…
— А вот тут стадион, на котором должно было проходить Евро-2012.
— А что, разве отменили это «Евро»? Вроде ж прошло…
— Нет, не отменили — просто его у нас забрал Харьков. Юлю ж посадили, власть переменилась…
Шофер рассказывал это размахивая руками, и было видно, что на запястье у него наколка, четыре цифры.
— Что, сидел? Лагерная татуировка? С номером? Мля, как в Освенциме!
— Не, это шариковой ручкой. Записываю время, ну, когда в аэропорт приехать, или шо.
По пути пытаемся рассмотреть город, глядя в окна.
— Видишь дом угловой? С арочкой? Здесь прошло мое джазовое образование. Целиком. Полностью.
— А что это за адрес такой?
— Здесь жил Саша Заславский. Тогда крупнейший днепропетровский коллекционер джазовых пластинок. Тут сутками просиживали. Сутками!
— Сейчас он жив?
— Не знаю, — после паузы ответил он.
— А может, он в этот момент сидит вон в той пивной?
— Какой пивной! Ему 80 лет! Если он жив.
— А что, в 80 лет — уже на помойку?
— Конечно.
— Ну, смотри, я припомню тебе эти слова через 11 лет!
— Можешь сейчас припомнить.
— Вот, припоминаю.
— Я сейчас не отказываюсь. И после не откажусь.
— О, я вспомнил как поэт Орлов говорил — что когда поэт напишет один хороший стих, то его надо убивать сразу. Такая у него мысль.
— Смешно, конечно. Но вряд ли реализуемо.
— Хороший стих — это редкость все же…
— Всюду все одно и то же… — говорит шофер. Это он к тому, что мы кружим по району с довольно сложной и путаной организацией движения, тяжело разворачиваться, а еще тут лихорадочная и бессистемная нумерация. Мы не можем найти нужный, искомый дом. Названия улиц другие, шофер помнит одни, Кабаков другие, никакой стыковки и преемственности, к тому ж тут и там понавтыкали новых домов, а из старых какие-то посносили — ну, как привязаться к местности?
— Так, так, — а здесь налево или направо?
Мы молчим, что тут скажешь. Говорим о другом, пока шофер кружит в выбранном нами квадрате. Вдруг нечаянно мы вырулим куда надо:
— Саша, а ты ведь машину не водишь? Купил бы права все-таки…
— Да у меня есть. И всегда были. Я могу ездить! Несколько лет назад, рано утром, на абсолютно пустой дороге я шоферу говорю: «Дай я поеду». Сел и поехал, ехал — и ничего, но остановился весь взмокший.
Мы плутаем, туда-сюда, и наконец Кабаков говорит:
— Вот, следующий дом, кажется. Да, правильно. Вот торец… Нет, это не он. Тот был не такой.
— А может, он стоит во дворе?
— Нет-нет, у дороги!
— Нам надо Ильича, 11. Это вот 15. А мы только что проехали 7-й. Где же 11-й?
— Может, его снесли?
— Почему — снесли? Обычный дом…
Мы останавливаемся и выходим из машины увидев бабушку, с виду местную, она в тапочках и без кошелки:
— Не скажете, где тут Ильича 11?
— От вы стоите — это героев Сталинграда, он второй дом. А Ильича — это туда… — она уклончиво махнула рукой куда-то в сторону.
— Если тот 17-й, то 11-й — впереди?
— Значить, отам де-то. Где Ильича. А тут — героев Сталинграда.
Что-то старожилы ничего не помнят. И не могут объяснить ничего.
— А он какой был, сколько этажей, тот дом? — спрашивает шофер.
— Ну, от такой, — уклончиво отвечает писатель.
— Охохо… Я вернулся в свой город знакомый до слез, как говорится… А на самом деле не очень-то и знакомый.
— А, може, вон тот? — это шофер.
— Нет, нет, нет, я помню, что выходил со двора либо туда, на проспект, — либо туда вот, наискосок.
— Значит, щас найдем, — бодро но очень неуверенно говорит шофер и зачем-то смотрит на свою татуировку про аэропорт. — А смотрите, они ж тут поразламывали, поднадстраивали, но вроде по идее он же должен здесь быть, а?
— Здесь должен быть, -- более или менее уверенно говорит Кабаков. --Дом 15… Но это непонятно какая улица… Как называется столица Гавайев?
— Гонолулу.
— Так вот, девушка, которая жила на Днепропетровской улице, наискосок, я к ней захаживал — помнишь, я тебе рассказывал? Так вот, она уехала в Гонолулу и там живет. Или умерла… Представляешь?
— Значит, ты заходил к ней в Днепре (так называют свой город местные патриоты), а теперь она — в Гонолулу? Как мудро написал писатель Гринберг-Зеленогорский — «девушки, за которыми я ухаживал, начали умирать».
— А от это не он? — спрашивает шофер указывая на неприметную хрущевку.
— Кто знает? Ни номера ж не видно, ни улицы названия.
— Да, если это 17, а то 15, то дальше должен быть 11 — а там нет ничего!
— Вот, то было сто процентов Ильича, 11, куда мы к бабке завернули, а она говорит — 4-й по Героев Сталинграда…
— Ну, вот и все, ото он и был. Ну нету другого его, ну нету, — волновался шофер.
— Ладно, поехали…
Мы прекратили поиски следов прошлого и поехали обратно в центр.
— Куда едем? — шофер все-таки хочет чтоб ему обозначили более или менее понятную цель.
— Куда? — переспрашивает Кабаков, задумчиво. — Гостиница «Украина» еще существует?
— Ну да.
— А в «Гостинице Украина» ресторан — существует?
— А то.
— И че, вы его не переименовали?
— Нет, не переименовывали. «Гранд отель» Украина".
— А раньше — просто «Украина» была, не гранд… До Маркса ехать, — уверенно говорит старожил Кабаков. — На том мы и закончим наше путешествие. Когда жизнь прошла, следов прошлого найти не удается…
Я пытаюсь утешить Кабакова:
— А вот мой дом, в котором я жил тут неподалеку, километров 300 наверно — в Макеевке — так его вообще снесли и он лежит в руинах, уже лет 10. Страшное зрелище. Как после бомбежки. Похоже на Грозный, каким тот был в первую войну…
Разговор про войну напоминает шоферу про политическую борьбу:
— За Юлю было пол-Украины, а теперь — вся. Мы за нее обязательно будем голосовать, выберем только ради одного — посмотреть, что она с ними сделает.
И то правда — не настало еще время для жалости и сочувствия к поверженным противникам. Нет, не настала еще эра милосердия. Что ж толку торопить ход истории — она тащится как загнанную лошадь
— Это как карикатура на Ходора. Бабу посадить — это круче чем мужика! Ярче. Это я о бренном, а Кабаков не слушает про это, он думает о вечном:
— А вот собор! Его никогда не закрывали. Нас собирали на Пасху и гнали оцеплять его, отгонять оттуда молодежь. Я всегда сказывался больным.
— И пробирался туда через своих ребят…
-…и кончилось это тем, что я там налетел на замдекана. «А ты ж больной!». «А я вот выздоровел и пришел в оцепление», — мгновенно соврал я.
— Ха-ха-ха. А я думал ты скажешь — вот я был больной, так пришел в храм и тут исцелился чудесным образом.
— Ну, меня и так исключали из комсомола…
Шофер кивает и рассказывает:
— Видите, вон — «Пассаж»? Его Аксельрод построил. А раньше пол-Днепропетровска было Кучмы и пол — Лазаренко. Пока Паша сидит в Штатах, тут люди дербанят… Охотятся друг на друга, выбивают конкурентов…
— А ты сиди тихо, раздай свои миллионы и выращивай капусту, на даче.
Наконец мы нашли хоть что-то из того что искали, из прошлого — вот, ресторан. Он был самый гламурный в те времена, при Советах.
— А часто ли ты тут бывал? — спрашиваю.
— Часто, часто. Тут, во-первых, играл на фортепиано мой приятель. А во-вторых — я на ресторан достаточно зарабатывал! Репетиторством. Я всегда зарабатывал…
Нас, что приятно, в послеобеденное прошедшее без обеда, время, перебивает быстро подбежавшая официантка:
— Для вас меню? Или вы просто выпьете?
Выпить-то конечно, но закуски это не отменяет. Он заказывает:
— Так. Пасту мы тут точно есть не будем… Украинского сала с чесноком и с соленым огурцом. Котлеты по-киевски… Нет, это слишком. А вот — вареники с картоплей и вареники с мясом. И — с капустой. Не, это много. С капустой не надо… И, во-первых, дайте нам водки. «Немиров Премиум». 300 граммов.
Она убежала, а он рассказывает дальше.
— Интересно она говорит — «хотите выпить или поесть?». А сидел я, кстати, тогда — вот тут же, где сейчас сижу. Меня пускали по протекции, хотя мест никогда не было, у меня ж тут, я сказал, был дружок… Я пил армянский коньяк, закусывал красной икоркой и шашлыком — в десятку тогдашнюю укладывался… А сортир тут был не то что грязней, чем щас (это после захода туда, руки помыть), а несопоставимо с тем, какой он щас. Он был зас. н весь до потолка. При том, что это была самая богатая гостиница и дорогой ресторан! Я еле вырвался в эту поездку… Я же работающий человек. Каким образом я могу все бросить? Я работаю. У меня роман стоит…
— Да ладно!
— Вот те и ладно… Ну, Господи Иисусе Христе… Давай. Привет печени: ты думала, будет по твоему? Ан нет! Я хозяин!
Пошел обед, поздний. Стук вилок, звяканье стеклопосуды, бульканье…
— Борщ должен быть на старом сале, — это комментарий под сало.
— В холодильнике кусочек желтый такой обязательно должен лежать…
— У меня лежит, — у меня ж хохлы на даче работают. А у меня голова работает, по инерции. Я читал лекции в университете в одном… Там 26 студентов славистского факультета — из них 17 пишут диплом по мне.
— А какой это университет?
— И ведь напишешь про это. Не смей! Я тебе сказал! Не люблю я вашего брата журналиста! А вот что можно сказать, так это то что они, студенты, слушали лекции с таким вниманием, с каким у нас не слушают ученые… Сало хорошее… Все правильно! И вот я им читаю рассказ — «Русские не придут» — там про расстрел… А они спрашивают: у вас есть личные впечатления? Есть, есть у меня личные впечатления! Но, конечно, я не воевал, как я мог воевать — я же журналист. Я ж не Лимонов. Я чувствую, что ему это реально нравится… О! Варенички!
Это их как раз приносят. Мы пробуем.
— Вареники тут да аль денте. Напишу-ка я им благодарность! ««Уважаемые работники общественного питания! Группа научных работников и преподавателей с Чукотки…»
--«…Кабаков и Свинаренко…» И ты подпишись не «Александр Абрамович», а просто — «Абрамович». Раз Чукотка. Вареники — все как велено, так и сделано! А твои хохлы не делают вареники, на даче?
— Делают. Но только деревенские. Большие!
Мы вспомнили русский магазин, на углу Dachauer & Schleisshemer Strasse, ну, ближе к вокзалу, это в Мюнхене, где мы подолгу терлись, — жаль, не совпадая по времени. Там Марек торговал как раз варениками, делал их на заказ, с любой начинкой, давай только предоплату. Кроме вареников он торговал еще селедкой, газетами оттуда и отсюда и разрозненными собраниями сочинениями, я у него ностальгически купил несколько томов Алексея Толстого, желтые такие кирпичи. И вот надо же — закрылась лавочка.
— Я прожил там два месяца… — вспоминает Кабаков. — Потом был почти по месяцу два раза. Мой любимый город. И вообще Германия — такая страна! Вот правильный способ жизни — это немецкий, а правильный внешний вид жизни, это английский. Почему они все время враждовали? Это была б идеальная страна, если бы они объединились.
Застолье немыслимо без анекдотов, Кабаков рассказал про пожилых супругов. Там старик говорит: «Убить — да, развестись — нет». Начало и концовку я забыл, а вот эта фраза запомнилась.
— А вот я хорошо женился, удачно. Жена подавала воды и возила передачи в больницу… Все не зря. Удалось! Ура!
— Ага, оправдал поездку, — одобряет он. — Все было не зря.
— Ну да, так получается…
— Скажи, смешной мой анекдот? Про стариков? Я — старый человек, реально старый… Мне скоро 70. 70 лет — понимаешь?
-Ну, это еще надо дожить, — утешаю его я. Или это не утешение?
Но он не сильно огорчен цифрами, которые щелкают на его счетчике, он обращается к официантке с тирадой о бренном:
— Что же мне еще съесть? Котлету я не хочу. А сделайте мне еще вареников с капустой!
В ожидании новых вареников он рассказывает мне некую историю, слушая которую я чередую «ох» с «ах» и хлопаю себя по ляжкам. Но увы, эту историю он после комментирует так:
— Если ты упомянешь про это хоть намеком, то будешь убит, падла.
После мы говорим о счастье.
— Я работаю, пишу романы… Был ли я счастлив? Я был очень доволен, когда у меня пошел «Невозвращенец». Очень доволен! Но — не счастлив. А щас я щаслив. Вот сейчас у меня прекрасное лирическое настроение, а вчера я хотел умереть. Вот что происходит с людьми…
Потом мы долго говорили про вареники. Которые тоже — важная часть жизни и даже, может, составная щастья. Особенно на Украине. (Если сказать «вареники в Украине» — то получится что она их как бы съела.)
Официантка все нейдет.
— Водка кончилась, Марина!
Ни звука в ответ…
— Марина, твою мать, ну что ж ты такое делаешь с нами…
— Марина! — повышаю голос я.
Мы тут два посетителя. Казалось бы, никто ее не мог отвлечь от обслуживания нас! Что ж такое?
— «Убийство в отеле Астория». Может, даже на наших глазах! Ее грохнули — и потому она не подходит! На почве, кто знает, неразделенной любви, или из-за бабок, на худой конец.
— Таких сюжетов до и больше. Марина! — громко говорит он.
— Марина! — ору я, в охотку.
— Это мне уже не нравится… ведь нам пора идти.
Появляется, наконец. Водки уже не надо, раньше надо было подойти.
— А мы вас зовем, зовем!
— Я тут.
Мы рассчитываемся и уходим.
По пути мы натыкаемся на демонстрацию. Идут люди с транспарантами и кричат: «Влада — геть! Днепр — свобода!»
— Это что значит? — спрашиваю я у ментов, это с пяток офицеров, которые мирно идут вдоль демонстрации, как бы за ней присматривая. Один отвечает:
— Это фанаты. Футбольной команды «Днепр».
Я всматриваюсь в портреты которые несут фанаты:
— Это же Бандера! Он что, был футболист? Увлекался этим делом?
— Не знаю, не знаю, — ровно говорит майор и делает безразличное лицо.
Мы разошлись в гостинице по номерам, передохнуть. Как настал вечер, пошли на новую встречу с фанатами — не футбола, но литературы. Идем в какой-то клуб на улицу Красная.
Мы шли, и в дороге я думал о нашем с Кабаковым досадном несовпадении. Больно тут вот что. Увлекшись здоровьем, мы с ним время от времени бросаем пить, от жажды жизни или от таблеток, какая разница — и происходит это чаще всего не в такт, мы не совпадаем обычно по фазе и редко-редко бывает так что мы можем сесть и выпить водки, простой водки. Которая становится, при нашем-то расписании, лакомством покруче шато марго, которому мы оба простодушно предпочитаем хлебное вино. Бывало всякое, — но в ту поездку была моя очередь скучать, давясь чаем, а он глотал рюмку за рюмку, делая такое лицо будто ему противно. Притворялся он, может, из солидарности со мной. Я же за годы передряг и лишений привык ко всему и совершенно спокойно могу сидеть в пьющей компании, не страдая оттого, что один трезвый среди алкашей. Ну, кроме тех случаев, когда люди уж совсем напиваются и начинают нести несусветную чушь — тогда да, становится скучно. Но о зависти речи нет, нету ее.
Тут собрались не то чтобы писатели, а скорей, просто патриоты города. Люди не первой молодости. И вот они хотели что-то ностальгическое послушать, вот, человек — такой же как они, провинциальный интеллигент — уехал в большой город и там ему повезло, он прославился ну не на весь мир, но на множество стран! Это конечно чудо, которое каждый мысленно хотел примерить на себя, подумать — «и я бы мог», покумекать, что же помешало, какая досадная случайность. Таланта же хватало, — думал каждый о себе. Просто не очень повезло.
— Город тогда был и интеллигентный, и хамский из-за множества понаехавших, -- рассказывает классик. — Понаехали же почему — тут была хорошая работа и куча институтов. Горный и металлургический очень сильные, и мед, и железнодорожного транспорта, само собой, и строительный тоже. Ну, и ракетчики. Я пошел поступать на физтех не потому, что хотел строить ракеты, отец настоял… Но меня на физтех не приняли, взяли на мехмат… Здесь тогда было интересно, музыканты, всякие мыслители и художники самодеятельные… И, конечно, КВН, Саша Янгель покойный был там главный, сын генерального конструктора ракетного, в Москве улица есть имени академика Янгеля… Джазовые фестивали еще были, я там в организации суетился и концерты вел. Джазовые музыканты были отличные. Наш фестиваль одно время был второй в стране, после Москвы. В которую я и уехал вслед за женой. А получилось, что разводиться с ней…
Кто сегодня любит джаз… Тут, конечно, повеяло крамолой, героизмом сопротивления:
— Два раза меня исключали из комсомола, но так и не исключили…
— А за что?
— Осуждать «неправильную» живопись вслед за Никитой Хрущевым я был готов, «но я хочу сперва ее увидеть…» Ну, и исключили из комсомола — за срыв собрания, потом восстановили…
Он понял, что ушел совсем в глубь если не веков, то, мягко говоря, истории, и воскликнул:
— Да я для вас говорящий памятник!
Публика подхватила:
— Брод был — не протолкнуться, говорят! Правда это?
— Ну, это в любом большом городе было так. Люди прогуливались хорошо одетые — из американских посылок, и еще была фарца из Херсона. Но это было убого, я понимал — потому что каждое лето ездил в Москву. Я сравнивал с Москвой — и понимал… И мы слушали много всего.
— Откуда записи?
— На Украине было с этим лучше, тут у многих родственники за границей.
— Не таскали за посылки?
— Нет.
После копнули еще глубже, еще дальше от современности, так, что она как бы стерлась и даже исчезла, и вроде даже никакой с ней связи.
— Отец мой пропилил всю войну в железнодорожных войсках. А после его отправили в Манчжурию. А дальше — послали в академию Дзержинского, где перепрофилировали из железнодорожников в ракетчики. На полигоне мы снимали жилье у деревенских, в подвале, где раньше держали овец. А так-то офицеры жили в вагонах. Отец уезжал на всю неделю, а возвращался в субботу вечером. Там было большое количество офицеров евреев.
— Ракетчики же!
— Отец ушел в отставку рано, наверху решили: «Генерала Абрама Кабакова еще не хватало в Советской Армии». Это в романе «Все поправимо» у меня описано. Если мы заговорим о романах… Надо сначала сказать о том как я начал писать… Первый опыт — это в 12 лет. Я написал стихи о любви и послал в журнал «Юность». Получил ответ от Андрея Дементьева, «больше читайте классику». Доброе такое письмо, да и человек он хороший. Потом написал я сценарий. Типа «А если это любовь». В 58-м, что ли. Я изучил это дело по журналу «Искусство кино», написал и послал во ВГИК на творческий конкурс. И мне прислали письмо — сообщили, что я прошел творческий конкурс. А я же еще учусь в школе. О чем и ставлю их в известность. Ну, отвечают они, потом поступите, а конкурс мы вам зачтем, не забудем. Но я пошел учиться на ракетчика. Отец считал, что у мужчины должна быть нормальная специальность.
Он еще много рассказывал о тех временах, «когда был знаменит, как крутое яйцо». И говорил, что те времена прошли. И в Москве-то Кабакова считают баловнем судьбы, не спрашивая, нравится ему такой взгляд со стороны или нет, — а уж в тихом глухом Днепропетровске это явно смотрелось кокетством. Да и мне кажется, что Кабаков привык жить счастливой жизнью. До того привык, что даже не замечает своего счастья. И когда говорит, что счастья почти не знал, это он просто колдует.
Таково мое оценочное суждение.
Я вот еще вспомнил, что 20 лет назад он мне рассказывал: в молодости мечтал об одном — напечататься. Ну, так и напечатался давным-давно, сколько написал и выпустил книг, он получал добавку не раз и не два.
— Вот и теперь. Тебе 70-й год, а ты на ходу, работаешь, и журналистом и романы сочиняешь. Чего ж еще желать? Это счастье и ничего больше.
Я загнал его в угол, и спорить тут ему просто не с руки. Он неохотно признал мою правоту.
Так-то!
Фото: Антон Луканин/ИТАР-ТАСС
- Житель Башкирии едва не зарезал племянника за тунеядство
- Минобороны сообщило о массированном ударе по энергетике и ВПК Украины
- МВД предупредило о новой схеме мошенников с «секретными чатами»
- В Новосибирске судят завотделением роддома: ошибка врача привела к смерти роженицы
- Столкновение с детским автобусом на Калужском шоссе: минивэн с мигрантами врезался в стоящую машину
- Полуголый мужчина измазал кровью подъезд в Тюмени
- В Тамбовской области задержан иностранец, бежавший в РФ от армии и призывавший к терроризму
- Путин поздравил 94-летнюю вдову Ельцина с днём рождения
- 27‑летний оренбуржец убил знакомого телевизором и пытался инсценировать самоубийство с пожаром
- Володин призвал отозвать рекомендации Минздрава о цветной форме для врачей