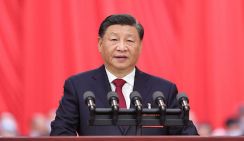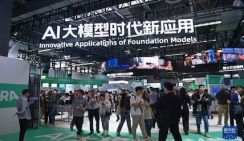«Активы наших диссидентов "морозили" на Западе не только ради их лояльности...»
Сергей Обухов
«Активы наших диссидентов "морозили" на Западе не только ради их лояльности...»
Сергей Обухов
- Министр обороны Турции дал оценку покупке у России ПВО С-400
- Назван простой способ восстановить печень даже при циррозе
- 15-летний подросток поплатился жизнью за желание рассказать о двойном убийстве в Забайкалье
- Назван знакомый абсолютно всем фактор, способствующий развитию рака поджелудочной
- В Еврокомиссии сообщили Украине неприятные известия
- Уролог развеял миф о раке простаты
- Раскрыта причина провала США в Иране
- Челябинская гимназия заплатит миллионы рублей за изнасилование 9-летнего ребенка в туалете
Без права на пошлость
Вторая контрольная прогулка с Грэмом Грином
Рассуждения о роли писателя в обществе Грэм Грин начинает с констатации: нравится нам это или нет, но все наши сочинения пишутся, что называется, на злобу дня:
" /…/ сколь осознанно и целеустремленно ни уходим мы от общественных проблем, они все равно просачиваются в наши художественные произведения сквозь малейшие щели, все равно пробиваются, как трава сквозь асфальт. По улицам существующих лишь в нашем воображении городов проходят колонны протестующих демонстрантов, наши персонажи вынуждены зарабатывать себе на хлеб насущный — и даже если они почему бы то ни было освобождены от таких забот, этот факт социально значим сам по себе".
Только что вышли «Болотные песни» Всеволода Емелина — аутентичный стихотворный дневник «включенного наблюдателя» за четыре ключевых месяца минувшей зимы. Уже штурмуют издательства целые толпы графоманов с повестями, а то и с романами про то, где «мы были» и куда «мы придем снова». А пока «Жан-Жак» и «Джон Донн» готовят империи ответный удар силами большой, как Дмитрий Быков, искрометной, как Борис Акунин, и всесторонне компетентной, как Юлия Латынина, прозы, решительно раскукарекался на старости лет переставший чураться рифмы Лев Рубиншейн.
Но ведь и по-настоящему серьезному писателю не обойтись в романе о сегодняшнем времени без дружеских и любовных связей (и, разумеется, разрывов), без карьерных (но и личностных) взлетов и падений, без безумных надежд и безумных разочарований на нашей, по принцу Гамлету, датской почве. То есть, прошу прощения, на нашей болотной…
Писатель должен быть верен правде жизни, утверждает Грин, должен быть верен ей хотя бы потому, что он часть жизни: вместе и наравне со всеми он стоит в очередях, составляет нужные и ненужные бумаги, заботится о хлебе насущном. У него, как у всякого другого, имеется гражданская и политическая позиция; различие лишь в том, что проявить ее, эту позицию, писателя постоянно подзуживают… А кто, строго говоря, подзуживает? Резкими саркастическими штрихами Грин набрасывает портрет этого человека — коллективной, так сказать, Евгении Альбац, а то и самого Сергея Пархоменко;
«Я живо представляю его себе: он член ПЕН-клуба; он, может быть, еще не отдышался, ведь он приехал сюда прямо с конференции где-нибудь в Стокгольме, где выступал с докладом в точности на ту же тему /…/. Прежде чем присесть к столу и подписаться под коллективным письмом в «Таймс» /…/, он непременно изыскал бы возможность объяснить нам, что такое общество и что такое художник.
Тем не менее, я скорее рад тому, что этого человека здесь нет. Его письма (адресованные нам) только укрепили бы мою неприязнь к вовлечению художника (как же я не люблю этого слова!) в общественную жизнь. Его письма — те, в «Таймс»; его и остальных подписантов — неизменно казались мне или ошибочными (и на основе ошибочной информации написанными), или наивными, или несвоевременными. Сколько было петиций в пользу жертв судебной системы, — а в результате петля лишь туже стягивалась у этих несчастных на горле. Облегчив совесть газетной публикацией (да еще в хорошей компании), такой «правозащитник» не брал на себя труда задуматься о последствиях. Да уж, я рад, что его с нами нет… Хотя он, разумеется, непременно отрецензирует нашу дискуссию у себя в газете"…
Всем нам, увы, известен пагубный миг перелома в творчестве едва ли не каждого второго мало-мальски крупного художника слова — тот миг, когда одного писательства ему становится мало и вот человек начинает пасти народы или, допустим, обустраивать Россию — и сразу же превращается в предмет для объективно заслуженных насмешек, превращается под сенью родных осин в ВПЗР (то есть в Великого Писателя Земли Русской)…
Грина такая перспектива страшила — и страшила не зря: позднее, на склоне лет, он в эту злополучную ересь все-таки впал. Но пока суд да дело, 44-летний писатель (самый расцвет сил, возраст акме) признает за собой — по сравнению с обычными людьми (то есть людьми нетворческими) — лишь «две дополнительные обязанности: говорить и писать только правду, по меньшей мере, только то, что кажется самому себе правдой, и не принимать никаких специальных привилегий от государства». Причем под правдой он подразумевает прежде всего правду художественную.
«Правдой я называю точность, это, по большей части, правда (или точность) стиля. Мой долг перед обществом заключается в том, чтобы не сочинять таких пассажей, как „Я застыл над бездонной бездной“ или „Спустившись вниз по лестнице, я сел в такси“, потому что и то, и другое просто-напросто физически невозможно. Персонажи моих книг не имеют права белеть как мел и дрожать как осенний лист — но не потому, что эти сравнения банальны, а потому что они, опять-таки, неверны. И этот вопрос имеет значение не только для совестливого художника, но и для совестливого общества в целом. Увы, мы уже имеем возможность пронаблюдать эффект воздействия бульварных книжонок на публику с бульваров. Каждый раз, когда такой неточный фразеологический оборот воспринимается читателем некритически, он искажает ход мыслей».
Мысль не однозначно бесспорная (да и примеры тоже), а восприятие ее русским читателем и, прежде всего, писателем затруднено тем, что в английском языке нет понятия «пошлость» — и Грин, соответственно, был лишен возможности им оперировать. Пошлый слог опошляет и самый возвышенный смысл, пошлая книга опошляет и без того пошлую жизнь, поэтому писатель, в отличие от человека не пишущего, лишен права на пошлость… Правда, вопрос о том, положительная это дискриминация или отрицательная, так и остается висеть в воздухе…
«Вторая наша обязанность — отказ от привилегий — важна ничуть не в меньшей мере. Щедрость государства к художникам, заинтересованность государства искусством куда опаснее равнодушия. В годы войны нам не раз доводилось слышать, как тот или иной правитель с самыми добрыми намерениями предлагает избавить творческие гильдии от обязательной воинской повинности. Но, интересно, как поглядели бы мы в глаза людям после опустошительной войны, проведи мы сами эти шесть лет в запасе, иначе говоря, в безопасности, жируя за общественный счет и ощущая себя слишком ценным человеческим материалом, чтобы идти на бойню, — а значит, пусть вместо нас на нее пойдут другие? И как все эти люди поглядели бы на нас?»
А вот эта мысль как раз проста и понятна — и в комментариях она не нуждается. Другое дело, что разделяют ее далеко не все. И Владимир Маканин, получивший «Большую книгу» первой степени за своего «Асана», без ложного стыда отмахивается от писателей-«чеченцев»: вы, мол, там были, а мне и не надо, я так вижу, да и вообще мне о чеченской войне внучатый племянник рассказывал…
Можно, однако, взглянуть на проблему и шире: все наши литературные премии, гранты, стипендии
«Может быть, наибольшее давление на писателя оказывает не общество как таковое, а „полуближний круг“: однопартийцы, единоверцы, бывшие однокашники и, разумеется, работодатели».
«Полуближний круг» самого Грина — католики. У него с церковью непростые взаимоотношения: романы его осуждал и запрещал (с последующей отменой запрета) Ватикан; сам писатель, отличаясь любвеобильностью и чуть ли не патологическим сладострастием, вел себя иной раз в духе группы «Война» (и, в какой-то мере, «Пусси Райот») — ему доводилось совокупляться со случайными, чаще всего замужними, дамами прямо в церкви, под прикрытием алтаря. Но, конечно же, мухи отдельно, котлеты — отдельно: мысль писателя была неизменно высока и точна.
«Есть святые отцы, полагающие, будто назначение литературы заключается в нравственном назидании. Это высокая цель и, возможно, куда более высокая, чем сама литература, — но это цель из другого мира и с другой шкалы ценностей. Литература не имеет ничего общего с назиданием. При этом я отнюдь не утверждаю, будто литература аморальна; я утверждаю, что она провозглашает и презентирует личную мораль, — мораль некоего отдельно взятого индивидуума, которая редко совпадает с моралью его „полуближнего круга“. Как прозаику мне должно быть дозволено выбирать самому»
Сегодня, когда все ту же «Большую книгу» вот-вот получит архимандрит Тихон Шевкунов за книгу «Несвятые святые», а Нобелевскую премию мира — все те же «Пусси Райот», когда, по мнению одних, идет по нарастающей недопустимое вторжение церкви в общественную и частную жизнь, а по мнению других, развязана откровенная и откровенно постыдная травля первых лиц РПЦ и самой церкви (и свои резоны, безусловно, имеются у обеих сторон), — сегодня самое время привести слова уже не такого сомнительного христианина и, тем более, сомнительного католика, каким был многогрешный британский писатель, а непререкаемого духовного авторитета в религиозной жизни Англии викторианского периода Джона Генри Ньюмана (1801−1890) — эти слова приводит и завершает ими свое выступление шестидесятипятилетней давности сам Грин.
Итак, что же сказал полтораста лет назад, но буквально о нашей нынешней ситуации Ньюман?
«Я утверждаю, что, признавая художественную литературу средством изучения человеческой природы, мы тем самым отрицаем возможность существования христианской художественной литературы. Потому что одно противоречит другому: грешный человек не может создать безгрешное произведение. Вы можете обзавестись писаниями величавыми и возвышенными, писаниями куда более одухотворенными, нежели художественная литература, но, собрав их воедино, вы убедитесь в том, что это не художественная литература вовсе!»
Это, напомню еще раз, высказывание авторитетнейшего богослова, волей или неволей слагающиеся в апологию реализма — в том числе «реализма грязного», в том числе (с почтительной оглядкой на нашего главного редактора и шеф-редактора; смайл) и «реализма нового»:
«Запретите не каких-то определенных авторов, не какие-то конкретные произведения, не какие-нибудь наиболее вызывающие слова и фразы, — запретите художественную литературу как таковую; уберите из школьных учебников все громогласные изъявления человеческой натуры, — и те же самые попавшие под ваш запрет явления встретят ваших учеников прямо за порогом аудитории — и будут они состоять не из букв и символов, но из плоти и крови… Сегодня он всего-навсего учащийся, а завтра — полноправный член человеческого сообщества; сегодня его воспитывают на Житиях Святых, а завтра — выбрасывают в блудный Вавилон… Вы отказали ему в знакомстве с трудами властителей дум, которые могли бы подготовить его к такой участи, — и отказали только потому, что они порой не дотягивают до ваших представлений об идеале»…
Ну, а о том, где граница между представлениями церкви об идеале и писательским правом на пошлость, мы с вами уже поговорили на этой прогулке. Там, разумеется, не граница, а широкая ничейная полоса — вот по ней-то мы все, будем надеяться, не переступая роковую черту, и прогуливаемся.
- Мелони рассказала Зеленскому о будущем вкладе Италии в восстановление Украины
- В Тобольске эвакуировали пединститут из-за сообщения о бомбе
- Раскрыт малоочевидный фактор риска инсульта
- Росгидромет: десятки российских регионов может затопить
- В Еврокомиссии сообщили Украине неприятные известия
- 15-летний подросток поплатился жизнью за желание рассказать о двойном убийстве в Забайкалье
- Министр обороны Турции дал оценку покупке у России ПВО С-400
- США временно разрешили Индии закупать российскую нефть с танкеров, застрявших в море
- В Красноярске экс-главврач и две его сообщницы попали под следствие
- Назван знакомый абсолютно всем фактор, способствующий развитию рака поджелудочной