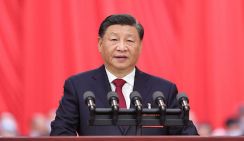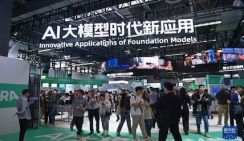«До 2030 года убудет до трети нашего авиапарка. Выход — это сокращение авиаперевозок…»
Андрей Патраков
«До 2030 года убудет до трети нашего авиапарка. Выход — это сокращение авиаперевозок…»
Андрей Патраков
- The Sun: новый лидер Ирана Хаменеи в коме после авиаудара, потерял ноги
- Россия подверглась масштабной атаке ВСУ
- Даже полезнее: нутрициолог назвала недорогие продукты на замену свежим овощам
- Стало известно, когда россияне начинают стареть
- Швейцария уведомила посольство РФ о новых ограничениях для дипломатов
- Риттер заявил о поражении США в войне с Ираном
- Цены на нефть могут подняться до 200 долларов, но рубль все равно упадет
- Главные новости на утро 13 марта
Партийное кино
В начале 2015 года в России сложились две новых партии: «Дурака» и «Левиафана»
Партии сложились без всяких идеологов и политтехнологов, которые тщетно решали подобную задачу полтора, почитай, десятилетия.
Появились, как и положено нормальным политическим организациям, не сверху, а снизу, не без помощи, конечно, социальных сетей. Толчком к их созданию стало обнаружение в свободном доступе двух свежих произведений отечественного киноискусства. Владимир Ильич Ленин с хрестоматийным «из всех искусств важнейшим для нас является кино» («и цирк» — добавят левые и шибко грамотные) — был кое в чем, безусловно, прав.
Партии эти — партия «Дурака» и партия «Левиафана».
Ну да, речь идет о фильмах Юрия Быкова и Андрея Звягинцева соответственно.
Впрочем, за новизной поводов нетрудно разглядеть традиционное русское противостояние — некоторые наблюдатели остроумно заметили, что от «Левиафана» фанатеют, главным образом, либералы-западники, тогда как «Дурака» горячо одобряют патриоты-государственники.
Такой бурной и массовой дискуссии с далеко идущими обобщениями о судьбах не только отечественного кино, по — бери выше — Отечества, я что-то с перестроечных лет не припомню. Другое дело, что по нынешним временам и нравам, предмет и куда более мелкий способен сделаться демаркационной линией.
На этом фоне троеперстие «Левиафана» и двоеперстие «Дурака» — вполне себе уважительная причина для раскола.
Немалое число зрителей и полемистов настаивают на совершенном различии — по природе, погоде, жанровом и уровневом — фильмов Быкова и Звягинцева, восклицают о недопустимости сравнений (кто вообще придумал их сравнивать?), продолжая, однако, нервный труд сопоставления.
На самом деле, ничего предосудительного нет в том, что числить «Дурака» и «Левиафана» в едином ряду — произведения обречены на сравнение. Более того, оно необходимо — как для партийного объединения, так и размежевания.
Сходство чисто формальное — время выхода фильмов и место действия — малые города России; даже в биографиях режиссеров, художников разных поколений, прослеживается своеобразный географически-фонетический параллелизм — Звягинцев родился в Новосибирске, Быков — в Новомичуринске.
Но куда больше оснований для сопоставления содержательного и, так сказать, киноведческого, «откуда дровишки». С последних и начнем — корни «Дурака» и «Левиафана» — в советском перестроечном кино, которое огульно обзывали «чернухой» — характерно, что в нынешней полемике хлесткий термин снова, и довольно произвольно, возродился.
Быков, собственно, корней и не прячет — песни Виктора Цоя, которые в «Дураке» не тянут на саундтрек, но вполне убедительны как лейтмотив, призваны сообщить действию внешнее, и даже, на нынешние деньги, историческое напряжение конца 80-х. Ход несколько наивный, прямолинейный, но работающий — как реанимация остановившегося сердца электрическим разрядом.
Я в свое время писал, по выходу звягинцевской «Елены»: Андрей Петрович, будучи мастером, прекрасно овладевшим ремеслом, но художником не шибко оригинальным, покинув обжитый тарковский мирок ради перспективного дела социальной драмы, нашел сюжеты и приемы ровно там, где их умели делать и наполнять градусами. То есть в перестроечном кино. Ему оставалось даже не поменять знаки, а помножить тогдашние упования на ноль.
Вышло актуальненько.
Там, где в перестройку — пафос скорого неба в алмазах («Курьер» Карена Шахназарова), теперь — житейский спорт высших достижений вроде обучения на коммерческой основе. Где было выяснение высоких отношений, ныне — суетливое убийство посредством «виагры». Где из неравного брака вырастает историческая драма («Любовь с привилегиями» с Вячеславом Тихоновым и Любовью Полищук) — сегодня рождается корявый, со слезою, афоризм «почему если у вас есть деньги, вы считаете, что вам всё можно?».
«Левиафан» делался по той же схеме («так жить нельзя»), с лошадиными дозами символизма — в одном флаконе и творческая манера — почерк Мастера, и недальний расчет. Найти в реальности симвОл, которому самое место в большом и толстом тарковском кадре (кстати, в «Левиафане» уже и с этим не очень) — ага, давай и его сюда, чем больше фестивальным жюри сдадим симвОлов — тем лучше.
(Отступление это, собственно, для тех, кто полагает, будто сравнивать две ленты нельзя и потому, что «Дурак» — эка невидаль — социальный памфлет, а вот «Левиафан», тут да — сплошная метафизика).
Общим выглядит и густое присутствие тени Алексея Балабанова — Юрий Быков посвящает «Дурака» его памяти (о правомочности этого посвящения тоже много спорят); да, собственно, и в кадре, и в том же Цое, ощущается юношеская подражательная восторженность и пиетет — «учитель, перед именем твоим…»
У Звягинцева — явственнее другое: завистливо-пренебрежительные, но неотступные мысли о мертвом Балабанове — мол, у него ж получалось, а у меня выстрелит тем паче — бюджета больше, имени, связей… А уж талантища…
Звягинцев пытается разгадать тайну и код Балабанова — в «Елене» срисовывая из «Груза 200» индустриальные пейзажи, а в «Левиафане» копируя их обитателей. Поэтому хороший артист Серебряков цитирует, вполне безоглядно, собственную работу — «Алексея» из «Груза 200»; сцена, где «Николай» выслушивает приговор-пятнашку — абсолютное дежавю по отношению к той, где «Алексея» ведут по тюремному коридору — исполнить.
И впрямь — «Алексей», «Николай» — какая разница. Русские бабы еще нарожают.
Ключевое сближение, впрочем, содержательное — оба произведения из «социальной жизни русского народа», как выражался расстрелянный красный командир Филипп Кузьмич Миронов. Основной конфликт — маленький человек в борьбе с «системой», видоизменившейся из страшного, но вполне материального «спрута» в победительного мифологического «левиафана».
Необходимо с горечью признать: ее, эту социальную жизнь, провинциальную в особенности, российские киношники знают худо (или знают по московской наслышке, что в общем-то, одно и то же). Звягинцевскому кино атрибутировали целый ворох недостоверностей — психологических (Дмитрий Быков),
«Дурак» грешит аналогичными нестыковками, хотя, надо признать, сорта клюквы у Быкова и Звягинцева разные, как и способы их оправдания — силами агитпропа сложившихся партий.
Дескать, Звягинцев снял мощную метафизическую притчу; социальная и психологическая драма — жанры тут вспомогательные, за достоверностью не гонимся, ибо реалистичная картинка на таких высотах и глубинах — пошлость и излишество. Более того, каждый режиссерский ляп — это вообще отдельный и самоценный симвОл. Вроде того, что могучая северная природа, Кольский полуостров и Баренцево море (стихия, откуда выползают, сотрясая поверхность, страшные и загадочно-библейские чудища) должны коррелировать с русским алкогольным разливом и душевными десятибалльными смутами.
(С не меньшим успехом можно угадать притчу при просмотре на множестве телеканалов программ о дикой природе. Не говоря о фильмах, допустим, Вернера Херцога. Я было предложил, если дело на то идет, объявить всеобщую амнистию дотошно каталогизированным никита-михалковским ляпам. Однако поддержан поклонниками «Левиафана» не был).
Но Михалков в защитниках особо не нуждается, а вот в роли адвоката Быкова рискну выступить — хотя бы потому, что «Дурак» мне кажется куда как свежей, точнее, сильней и пронзительней «Левиафана».
Наверное, потому, что я ватник. Спорить не буду, но предложу несколько иной критерий — литературных аллюзий, которые почтительным хором приписываются Звягинцеву (ага, налетай, как на сейле — помимо прочего, и Томас Гоббс, и «Антихрист» фон Триера, и Къеркегор, и, естественно, «Книга Иова»). И которых, согласно тому же хору, прямолинейный «Дурак» вроде как начисто лишен.
Искушенным зрителям кажется совершенно недостоверным эпизод, когда чиновники, сорванные с юбилейной пьянки на авральное совещание, начинают обвинять друг друга в традиционно-коррупционных грехах, по принципу «кто тут больше всех ворует». Да еще при постороннем — человеке из народа, бригадире сантехников. Такого, мол, быть не может! И потому, что воруют люди власти по умолчанию, никак процесса не озвучивая, на чем система стоит и функционирует, и, паче того, не станут они свою подземную коммерцию, пилёж и откаты, обсуждать, когда чужой здесь уши греет.
Сцена это, безусловно, сделана с комедийным пережимом, воспринять ее в таком качестве мешает общий мрачный и героический пафос фильма. А ведь она — почти прямая цитата из гоголевского «Ревизора». Быков, явно намеренно, копирует и гоголевский бюрократический расклад — смотритель богоугодных заведений (глава горздрава), частный пристав (руководитель РОВД), из гоголевского же архаичного штатного расписания — пожарный (который теперь главный МЧСник), а почтмейстера заменил куда более актуальный начальник коммуналки. Все пляшут вокруг Городничихи, что неверно фактически (федералы под контролем муниципалов — нонсенс, в современности всё наоборот, и привет конституционному разделению властей), однако верно для гоголевской реальности вневременной, мистической России.
И что здесь точнее и актуальнее — сразу и не скажешь.
Любопытно, что название фильма и реплика одного из персонажей про «дороги говно» перекликаются с общеизвестным диагнозом Николая Васильевича, наполняя его новыми смыслами.
Надо полагать, и тарантиновская история с расправой над чиновниками — очевидцами отсроченной трагедии, — когда насквозь повязанный распилами-откатами и мутными схемами коммунальный барон по фамилии Федотов просит убийц «отпустить пацана», понадобилась Быкову, не только для малоправдоподобного заострения сюжета, но и чтобы напомнить зрителю пронзительные строки из Николая Васильевича.
«Знаю, подло завелось теперь на земле нашей; думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их. Перенимают черт знает какие бусурманские обычаи; гнушаются языком своим; свой с своим не хочет говорить; свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке. (…) Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы умирать, — так никому ж из них не доведется так умирать!.. Никому, никому!.. Не хватит у них на то мышиной натуры их!«
Конечно, главный герой «Дурака» Дмитрий Никитин напоминает Хлестакова разве что простодушием, однако совершенно очевидна его близость с персонажами другого русского классика, мистика и гения — Андрея Платонова. Никитин — прямой наследник платоновских правдоискателей и ересиархов пролетарского происхождения. Сходство это едва ли случайное — и Юрий Быков, обнаруживая и фиксируя вечный конфликт гоголевского мира с миром Андрея Платонова, — пророчит социальный катаклизм огромной силы. «Вот он, родненький семнадцатый годок».
Интересно, кстати, что в аспекте предвиденья скорого будущего «Дурак» перекликается с фильмом перестроечных лет «Город Зеро» Карена Шахназарова. Кино сюрреалистическое, по достоинству не оцененное (впрочем, выдающийся левый мыслитель Сергей Кара-Мурза разбирал его в своих работах уважительно и увлекательно), однако в части пророчеств сбывшееся с пугающей точностью.
Словом, я бы не торопился говорить о простеньком социальном памфлете на злобу дня. И о преимуществах метафизики «Левиафана» над критическим реализмом «Дурака». В историческом измерении партия российских «дураков» явление, пожалуй, более вечное, чем символический «левиафван».
И это внушает надежду.
Фото: кадр из фильма «Левиафан»
- Кая Каллас: США хотят разделить Европу и ослабить Евросоюз
- Бывший начальник УМВД Челябинска отправился добровольцем на СВО после скандальной отставки
- Тюменец надругался над маленьким пасынком
- В деле экс-замминистра обороны Цаликова могут появиться новые эпизоды
- Порвал паспорт своей спутницы и требовал ареста: в Таиланде загадочно исчез житель Башкирии
- Приговор вступил в силу: скрывавшегося 32 года убийцу уральской семьи отправили в колонию
- Швейцария уведомила посольство РФ о новых ограничениях для дипломатов
- Выстрелил в лицо из ракетницы: юный уралец ответит в суде за травму приятеля
- The Sun: новый лидер Ирана Хаменеи в коме после авиаудара, потерял ноги
- В Омске банда вымогателей получила сроки за серию тяжких преступлений: среди жертв — воспитанники детдома